Инна Михайловна Ромащук
доктор искусствоведения, профессор,
и.о. проректора по научной работе ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова
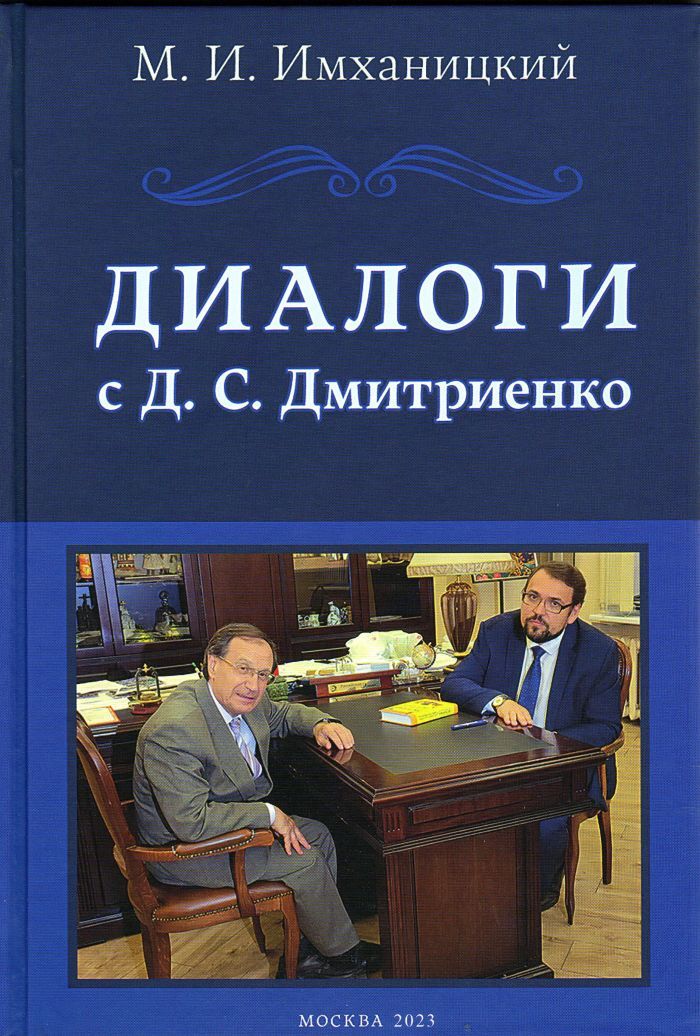
Диалоги — атрибуты современного знания о писателях, художниках, музыкантах-исполнителях, дирижерах. Круг изданных книг-диалогов обширен, их фонд продолжает активно пополняться. Разнообразны подходы к такому формату книг: беседы (Хитрук А. Беседы с музыкантами о фортепианном искусстве". Избранные статьи и рецензии. М., 2015); подразумеваемые диалоги (Овчинников А. Г. Диалоги с Чеховым. Чехов в диалоге с писателями. М., 2024); интервью в форме диалогов (Игорь Стравинский. Диалоги. Л., 1971). Направленность диалогических трудов об искусстве понятна: услышать голос художника, писателя, музыканта, отвечающего на вопросы о творческом процессе, конкретных произведениях, жизненном пути. При этом не так часто можно встретить книги бесед с учеными, поскольку их труды говорят сами за себя. Тем больший интерес вызывает недавно изданная книга — Имханицкий М. И. Диалоги с Д. С. Дмитриенко [2]. На вопросы известного музыканта, заслуженного артиста РФ, главного дирижера и художественного руководителя Государственного русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, Д. С. Дмитриенко отвечает заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор М. И. Имханицкий, чьи труды по широкому кругу вопросов, связанных с темой «народные музыкальные инструменты» давно стали научной классикой.
Жанр диалога (греч. Dialogos — разговор между двумя или несколькими лицами) известен с давних времен. В Древней Греции диалог как способ выражения своих взглядов практически постоянно использовал Платон. Исключением стал один только его труд — «Апология Сократа». Особую форму диалога, так называемые «парные речи» с приготовленным введением, вводит Аристотель. Позже появились диатрибы (в ораторской речи, с обращением и к самому себе) в философских спорах, диспутах.
В ХХ веке теорию диалога как формы познания разрабатывал М. М. Бахтин. И это стало важным смысловым дискурсом применительно к научному знанию, связанному с «диалогической интуицией» [1, 104].Научная теория М. М. Бахтина получила продолжение в работах Ю. Кристевой. «Диалогизм рассматривает любое слово как слово о слове, обращенное к другому слову, лишь в том случае, если слово участвует в подобной полифонии, принадлежит „межтекстовому“ пространству, оно оказывается полнозначным … Диалог слов-дискурсов бесконечен», - пишет автор, подвигая к внимательному изучению формы и вида диалогов [4, 16]. Здесь речь идет о методе изучения произведений искусства, и эта позиция стала одной из доминантных в научном знании. Не менее востребованы в настоящее время и диалоги как форма общения. Они в определенной степени восполняют знания, которые ранее открывались через эпистолярий и дневниковые записи. Можно говорить о «скрытом» диалоге, «внутреннем» диалоге, и, конечно же, о диалоге как форме ответа на вопросы во время интервью, беседы с известной личностью.
В предисловии книги бесед с Сэйдзи Одзавой широко известный японский писатель Харуки Мураками (р.1949) написал: «Наш разговор не был интервью в общепринятом смысле. Не был он и пресловутой „беседой двух знаменитостей“ <…>. Что и говорить, это было весьма интересное переживание» [6, 11].
Эти слова как нельзя более подходят и для представления книги Диалогов М. И. Имханицкого и Д. С. Дмитриенко — двух крупных, известных музыкальных деятелей, равно погруженных в обширную сферу народного инструментария. В чем особая значимость этого издания: в нем открывается обширная панорама историко-теоретического и исполнительского искусства, к которому причастны оба собеседника. Тема интересна и потому, что «уже в первые десятилетия ХХ века заметно стремление музыкантов использовать народные инструменты в противоположной по отношению к их природе функций» [3, 38].

О значении деятельности ученого в осмыслении вопросов истории и теории народно-инструментального искусства, развития исполнительского музыкознания, педагогики, теории и практики музыкального исполнительства Д. С. Дмитриенко пишет во введении, подчеркивая, что открытия М. И. Имханицкого важны для общей теории исполнительства, «причем для различных музыкальных специальностей. И особенно важна здесь предлагаемая новая классификация музыкальных инструментов, в которой для музыканта первичным становится базовый способ извлечения звука на инструменте, а не его источник» [2, 5].
Обратим внимание и на «Слово» Дмитриенко о Михаиле Иосифовиче Имханицком. Оно помещено в конце книги и содержит факты жизни и деятельности музыканта, авторитетного ученого. «В этих диалогах мне хотелось представить творческий облик М. И. Имханицкого — мыслителя, ученого, педагога, композитора, необычайно творческого и инициативного человека» [2, там же]. Здесь же — архивные изыскания Имханицкого, находки изображений древних домр, его новая систематизация народных инструментов, новый взгляд на историю баяна, русской гармонии в целом [там же, 483], предложенная Имханицким трактовка артикуляции как искусства дикции и фразировки [там же, 484].
В шести частях книги представлены основные идеи ученого, подробно изложенные, сфокусированные в более чем двадцати беседах. Названия и подзаголовки книги дают возможность говорить о том, что здесь в целостном охвате проблем выделены главные моменты, систематизированы общие положения, касающиеся взглядов ученого на мир русских народных инструментов.
В каждой из глав открываются важные для науки и исполнительского искусства позиции ученого, что подчеркнуто и в названиях: «Идеи М. И. Имханицкого о сущности академического исполнительства в музыкальном искусстве» (часть 3), «О новых принципах классификации музыкальных инструментов» (часть 4), «О новом понимании сущности музыкальной артикуляции, фразировки и штрихов» (часть 5).
В развернутой первой части речь идет о разных инструментах: о поисках древнерусской домры, о ее преобразовании в балалайку; о новом взгляде на историю гитары и гуслей в России, об уточнении терминов «баян», «аккордеон», «гармонь», «гармоника», о процессе взаимодействия русского и зарубежного исполнительства. Отвечая на вопрос «В чем необходимость комплексного осмысления истории академического исполнительства на русских народных инструментах?» [2, 147], Имханицкий определяет критерии, согласно которым целостное понимание народных инструментов имеет большое значение: появление нового репертуара, новой методики, «школ» игры на народных инструментах, возникновение новой области творчества отечественных композиторов, введение универсальных норм хроматического звукоряда. Ученый отмечает разветвленную систему изучения народных инструментов (школа-училище-вуз). Дмитриенко согласен с Имханицким в том, что «комплексное изучение истории исполнительства, действительно, помогает осознать общие закономерности эволюции концертных русских народных инструментов в тот или иной период времени» [2,159].
В композиции книги значительное место занимают вопросы, касающиеся статуса русских народных инструментов (часть 2), различия и взаимосвязи между фольклорным и академическим исполнительством (часть 3), новой классификации музыкальных инструментов (часть 4), заметен переход к конкретным художественным задачам и техническим моментам, связанным с музыкальной артикуляцией. Здесь в одной из бесед Имханицкий рассуждает о зависимости артикуляционных соотношений от трех основополагающих принципов музыки: кантилены, моторики и речевого начала – и свои доводы подкрепляет нотными примерами из сочинений современных композиторов и переложений из классического репертуара. И это позволяет Д. С. Дмитриенко подтвердить, что «действительно, артикуляция – и в словесной речи, и в музыкальной есть искусство дикции как феномен именно универсальный» [2, 406].
О шестой части книги стоит сказать отдельно: здесь раскрывается исполнительская, композиторская, педагогическая составляющая феномена личности Имханицкого и его деятельности. Этот большой раздел можно было бы выделить в виде отдельного очерка, или даже книги о жизни выдающегося музыканта, ученого, педагога. Однако именно в Диалогах, он оказался весьма уместным, поскольку после объемного собрания значительных новаций ученого, его опыта работы, действительно возникает желание ближе познакомиться с незаурядной личностью, во-многом первооткрывателем, сумевшим восполнить существенные пробелы в истории и теории народного исполнительства, пересмотреть и включить в научное знание обоснованные им новые положения. Отвечая на вопросы, Имханицкий подробно рассказывает о своем отце, который воевал во время Великой Отечественной войны и был фронтовым фотографом; о маме, Софье Захаровне, которая училась на филологическом факультете Харьковского университета, но не смогла его окончить в связи с началом войны. О том, что важную роль в его профессиональной судьбе сыграл Владимир Подгорный[1], тогда студент консерватории. Именно благодаря ему, Имханицкий начал учиться игре на баяне: «Услышав его необычайно проникновенную игру, тогда я твердо решил: буду баянистом» [2,464]. Среди тех, кто наиболее сильное влияние оказал на его будущее были композитор Дмитрий Львович Клебанов, Олег Михайлович Агарков, который «ко всему подходил с позиций Большой музыки» [там же, 474], Виктор Порфирьевич Кузовлев, под руководством О шестой части книги стоит сказать отдельно: здесь раскрывается исполнительская, композиторская, педагогическая составляющая феномена личности Имханицкого и его деятельности. Этот большой раздел можно было бы выделить в виде отдельного очерка, или даже книги о жизни выдающегося музыканта, ученого, педагога. Однако именно в Диалогах, он оказался весьма уместным, поскольку после объемного собрания значительных новаций ученого, его опыта работы, действительно возникает желание ближе познакомиться с незаурядной личностью, во-многом первооткрывателем, сумевшим восполнить существенные пробелы в истории и теории народного исполнительства, пересмотреть и включить в научное знание обоснованные им новые положения. Отвечая на вопросы, Имханицкий подробно рассказывает о своем отце, который воевал во время Великой Отечественной войны и был фронтовым фотографом; о маме, Софье Захаровне, которая училась на филологическом факультете Харьковского университета, но не смогла его окончить в связи с началом войны. О том, что важную роль в его профессиональной судьбе сыграл Владимир Подгорный[1], тогда студент консерватории. Именно благодаря ему, Имханицкий начал учиться игре на баяне: «Услышав его необычайно проникновенную игру, тогда я твердо решил: буду баянистом» [2,464]. Среди тех, кто наиболее сильное влияние оказал на его будущее были композитор Дмитрий Львович Клебанов, Олег Михайлович Агарков, который «ко всему подходил с позиций Большой музыки» [там же, 474], Виктор Порфирьевич Кузовлев, под руководством которого молодой баянист начинал свой путь в педагогике. Имханицкий называет много имен тех, с кем сводила его судьба, подвигая как к исполнительской, так и научной деятельности. Так, например, услышав еще в 1971 году в исполнении Ф. Липса Медитацию №9 «Бог среди нас» О. Мессиана, Имханицкий, по его словам, был «буквально ошеломлен» [там же], и, вероятно, с этого времени у него и возник большой интерес к современной музыке. А что же композиция? Ряд его сочинений, а это Камерная симфония, квартет, пьеса для скрипки, романсы, Концертино для баяна и фортепиано были создано еще в годы учебы, позже появится Соната для баяна и фортепиано.
1Владимир Яковлевич Подгорный (1928-2010) – баянист, композитор, автор многочисленных сочинений для баяна – фантазий, прелюдий, «Альбома для юношества» и др.
Еще очень важно Приложение — список публикаций М. И. Имханицкого из 418 наименований [2,486−500].
Книга Диалогов вобрала в себя практически весь полный объем научного творчества мастера, и все же каждый, кто захочет что-то уточнить, может обратиться к конкретным статьям и книгам М. И. Имханицкого.
Книга Диалогов вобрала в себя практически весь полный объем научного творчества мастера, и все же каждый, кто захочет что-то уточнить, может обратиться к конкретным статьям и книгам М. И. Имханицкого.
Текст книги предполагает общение с заинтересованным читателем, музыкантом, ученым, педагогом и молодым исполнителям, который стремится овладеть высшей школой мастерства. И эти диалоги, говоря словами Ю. Лотмана, фиксируют «свойство искусства превращать условно в реальное и прошедшее в настоящее» [5,235–236].
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. третье.М.: Художественная литература. 1972. 471с.
2. Имханицкий М. И. Диалоги с Д. С. Дмитриенко: М.: ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. 2023. 512с.
3. Имханицкий М. И., Шарабрин М. И. Особенности формирования репертуара для смешанных ансамблей русских народных инструментов. Художественное образование и наука. 2022. №1. С. 35–43.
4. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН. 2004. 656 с.
5. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, изд. группа «Прогресс». 1992. 272 с.
6. Хаоруки Мураками. Беседы о музыке с Сэдзи Одзавой. М.: ЭКСПО. 2021. 320 с.
1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. третье.М.: Художественная литература. 1972. 471с.
2. Имханицкий М. И. Диалоги с Д. С. Дмитриенко: М.: ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. 2023. 512с.
3. Имханицкий М. И., Шарабрин М. И. Особенности формирования репертуара для смешанных ансамблей русских народных инструментов. Художественное образование и наука. 2022. №1. С. 35–43.
4. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН. 2004. 656 с.
5. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, изд. группа «Прогресс». 1992. 272 с.
6. Хаоруки Мураками. Беседы о музыке с Сэдзи Одзавой. М.: ЭКСПО. 2021. 320 с.