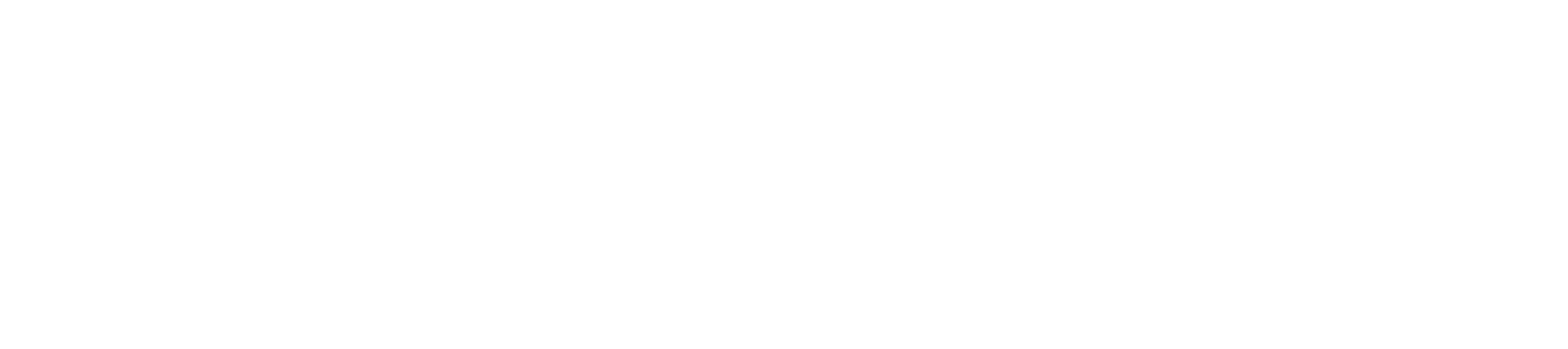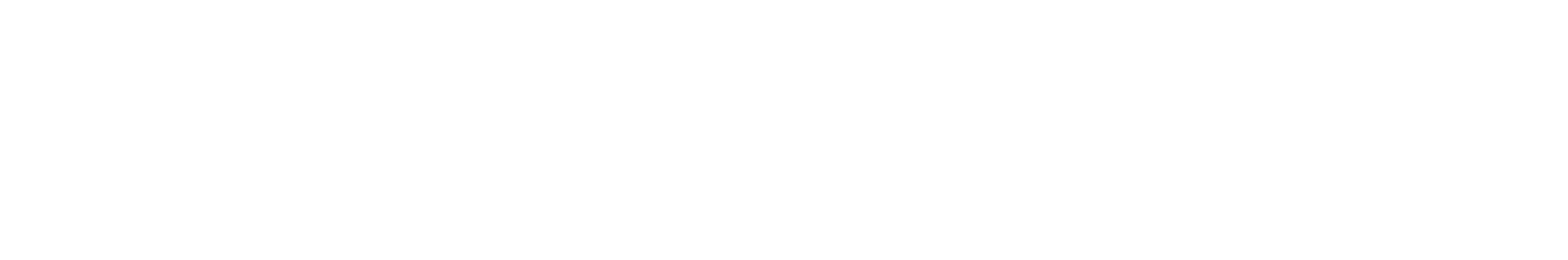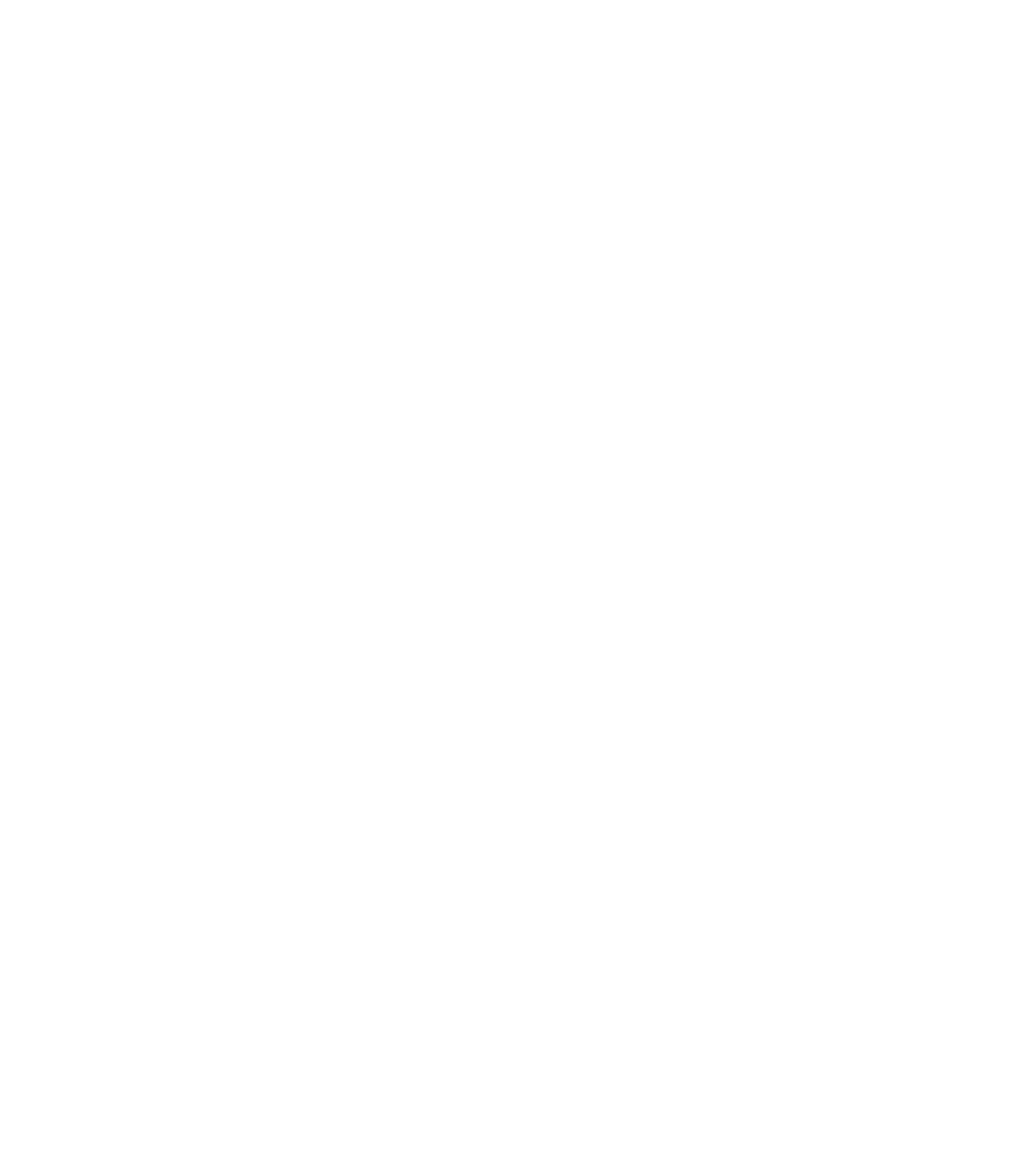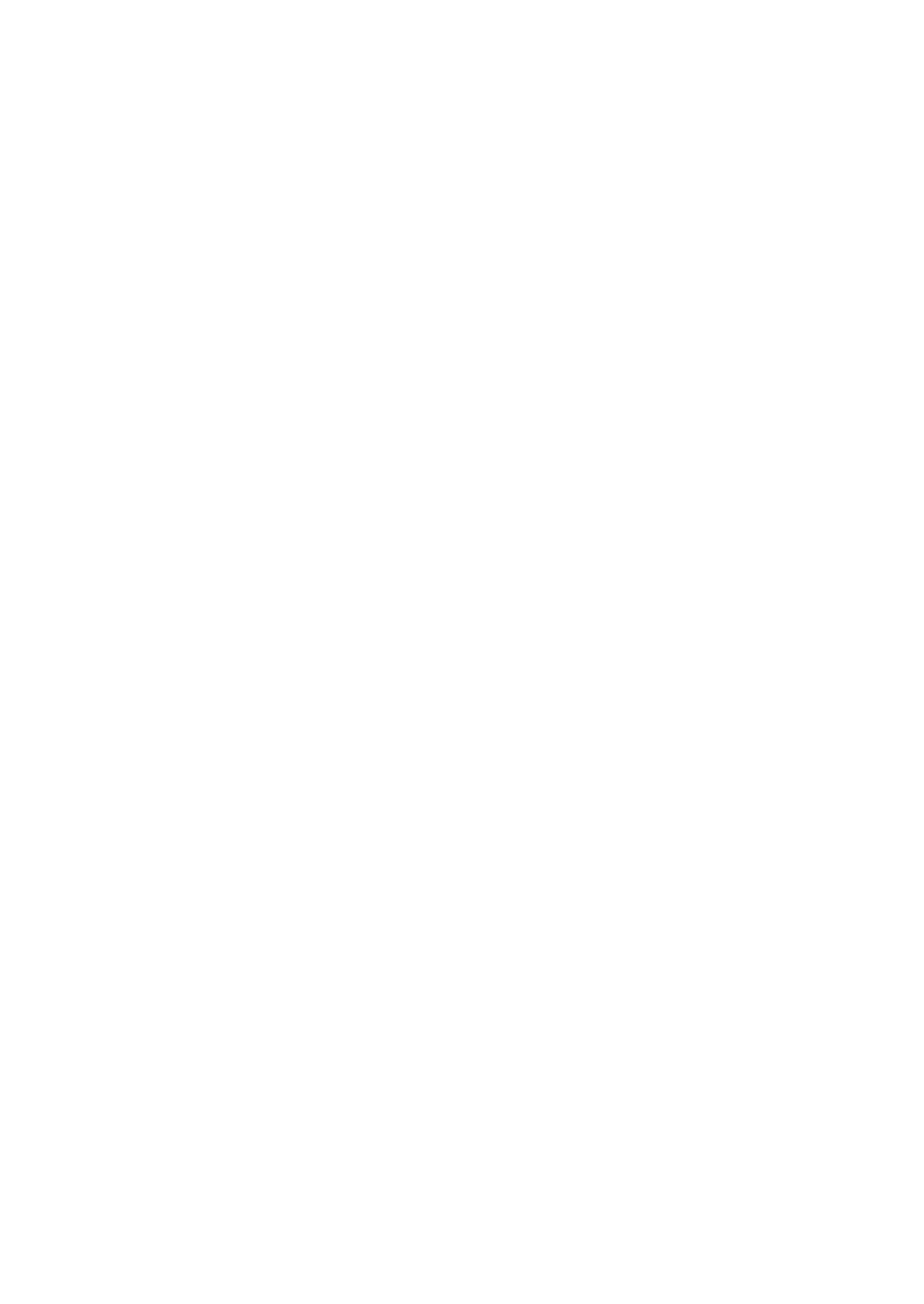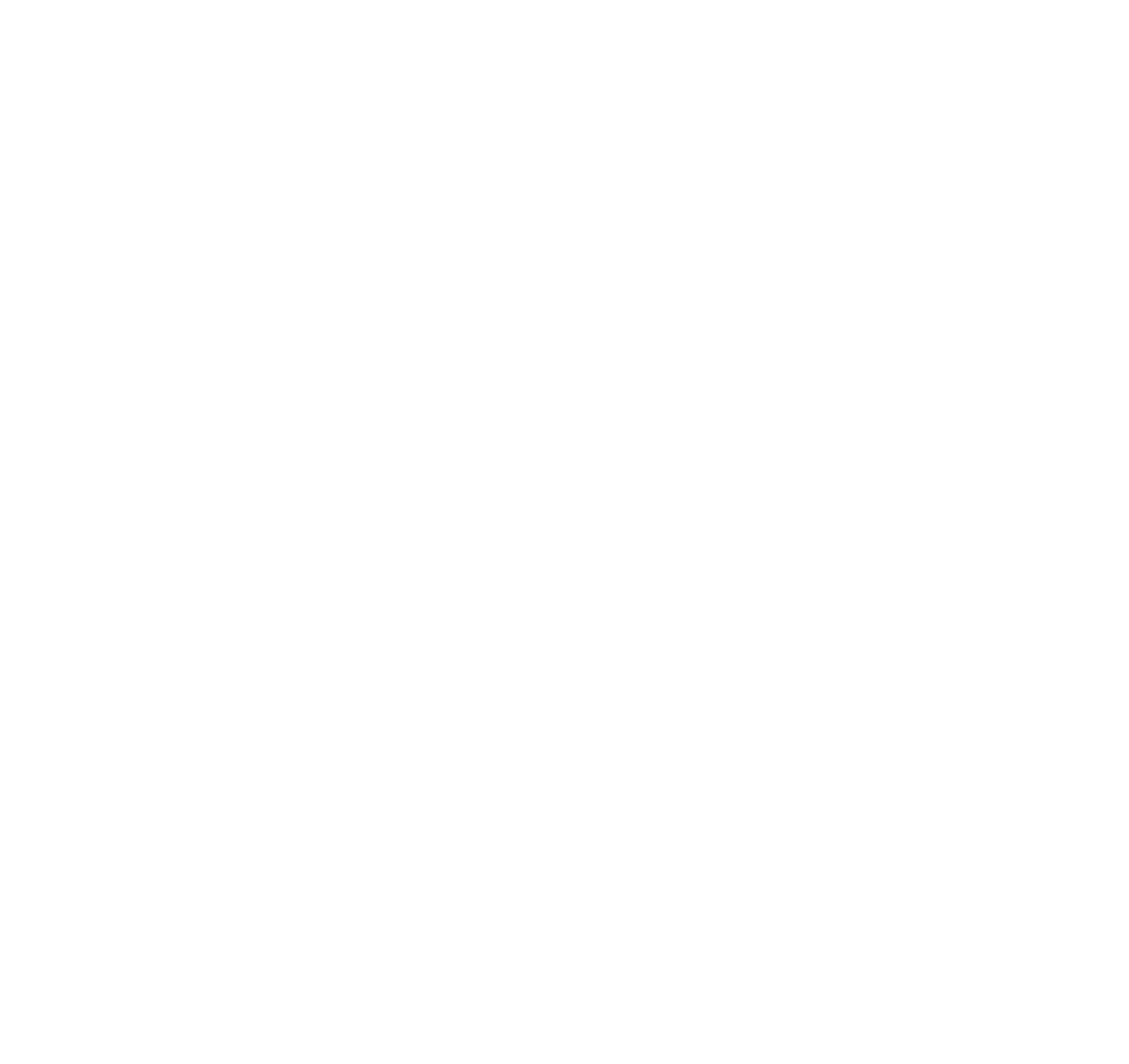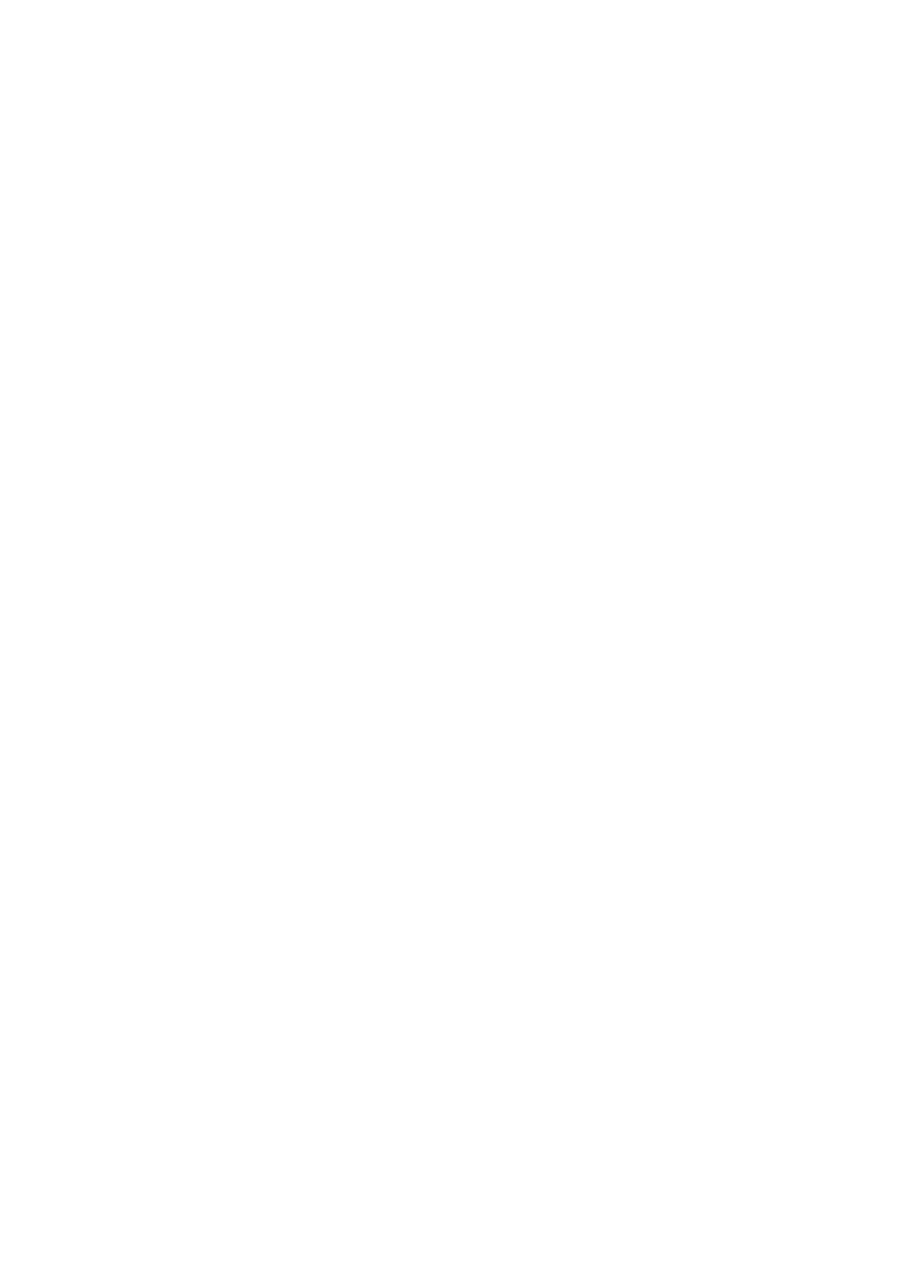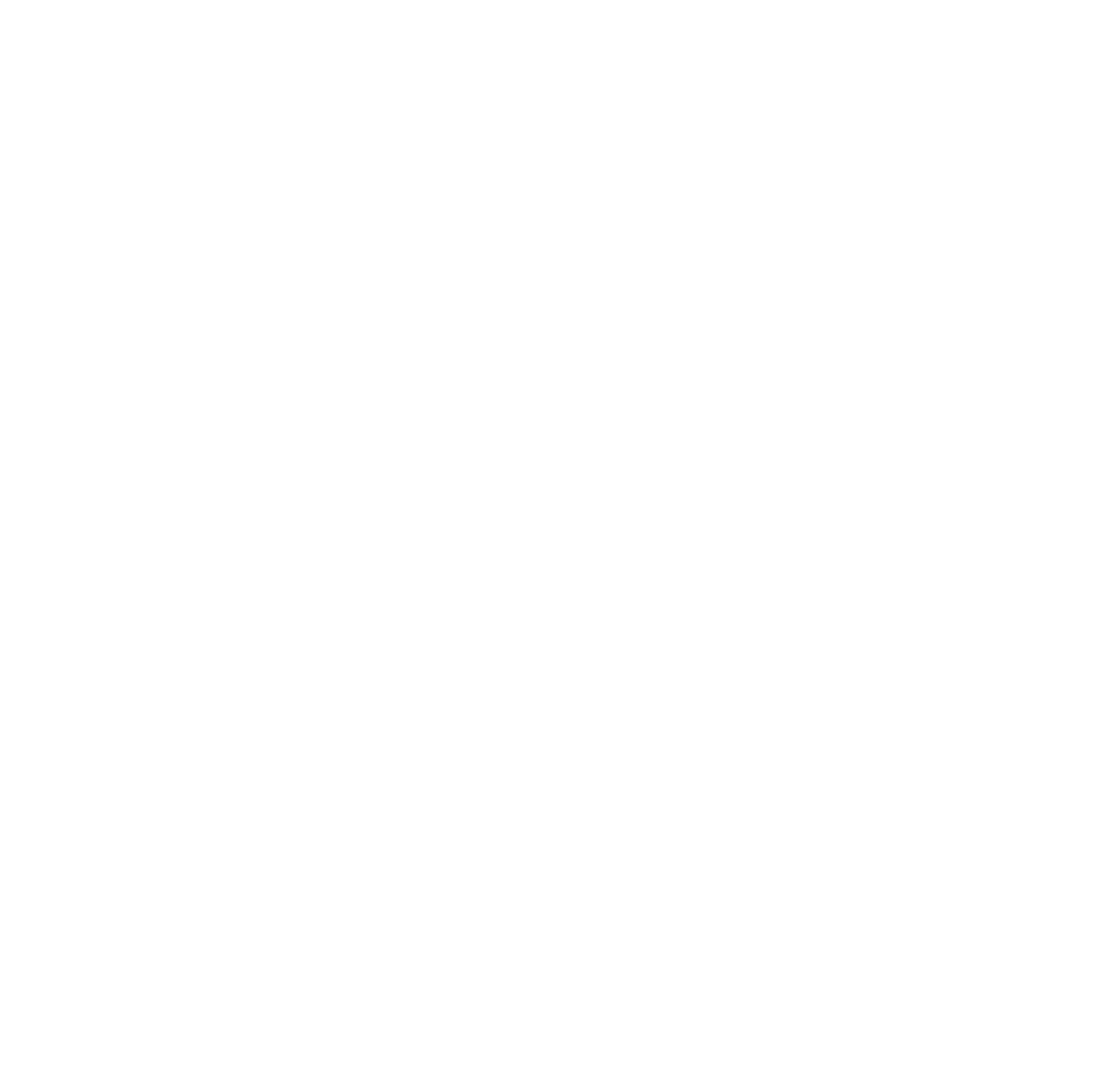Мужество жить
(Детская школа искусств №1 города Омска)
Леонид Рабчук
журналист, фото автора,
из архива Детской школы искусств № 1
им. Ю.И. Янкелевича города Омска
МУЖЕСТВО ЖИТЬ
Детская школа искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича города Омска, одна из старейших музыкальных школ Сибири, созданная в самом начале 1920 года в только что освобожденном от войск армии Колчака Омске, пережила все испытания вместе со страной и ни на минуту не прекращала своей работы. В самые тяжелые годы — Великой Отечественной войны и первые послевоенные мирные, но еще более трудные времена, школа и ее педагоги во главе с легендарным директором Ядвигой Щепановской выполняла свою главную миссию — раскрывать в детях таланты и воспитывать настоящих музыкантов. В 1941 году большинство музыкальных школ в стране были временно закрыты по разным причинам, но в Омске школу сохранили. О том, как это было и какой ценой далось, рассказывает книга омского журналиста Леонида Рабчука «Мужество жить». Перед вами фрагменты из книги, вышедшей в 2022 году, и дополненные автором новыми материалами.
НЕ МЫ ЭТОГО ХОТЕЛИ
1940 год для Оммузшколы был знаменательным — отмечалось двадцатилетие с момента ее создания. Встретить юбилей решили не совсем обычно — чествованием старейшего педагога школы Серафимы Феофановны Десятниковой. В ее трудовом списке (аналог современной трудовой книжки) на тот момент было 5 записей о трудоустройстве преподавателем фортепиано. Менялись наименования учебного заведения, неизменными оставались только служение товарища Десятниковой и адрес места работы — ул. Рабфаковская, 5 — с 1 декабря 1919 года, то есть за месяц до официального открытия школы. Этот редчайший факт не могли обойти стороной в омском отделе народного образования и организовали настоящий праздник, а местом чествования старейшего педагога школы стал итоговый вечер-отчет за 1939/40 учебный год, для проведения которого из бюджета Омска были выделены значительные 2000 рублей. В приказе о премировании педагога небывалой для педагогической отрасли суммой в 750 рублей от 15 июня 1940 года (№ 18) по Омской детской музыкальной школе зафиксировано: «Серафима Феофановна с самого возникновения Омской музшколы беспрерывно ведет класс специального и обязательного фортепиано». Учебный год окончен, большинство педагогов сразу на следующий день уходят в очередной отпуск.
Следующий 1940/41 учебный год начался без серьезных кадровых проблем. Восстановился педагог по классу скрипки Виктор Михайлов, проходивший краткосрочную службу в рядах Красной армии, другие вакансии на струнном отделении также были закрыты. К выпуску в школе готовились учащиеся, принятые впервые в 1934-м по новой 7-летней программе. До этого в рамках музтехникума обучались пять лет, или курсов, как тогда было принято называть. Все последние годы набор увеличивался и к 1940 году достиг 50 учеников от 9 до 17 лет, начала работать группа дошкольной подготовки для музыкально одаренных детей. Педагоги школы подключились к работе с учреждениями бывшей системы Соцвоса (социального воспитания), были организованы занятия по музыке и фортепиано с воспитанниками детских домов и школы-интерната для слепых детей № 27, педагогов школы подключили к работе на курсах общего музыкального образования без отрыва от производства (КОМО).
Одним из требований времени стала модернизация системы обучения, и управление культуры выделяет значительные средства на переподготовку кадров. Организуются систематические выездные сессии Свердловского музыкального училища и Свердловской государственной консерватории имени Мусоргского, ставших методической базой для всех музыкальных учебных заведений региона. Регулярно проводились открытые уроки, методические занятия с педагогами, предварительный отбор учащихся с рекомендацией для поступления в училище и консерваторию. В это время педагоги Оммузшколы активно пользуются возможностью повышения своей квалификации — Щепановская, Нагибина. Невзорова и Зюзько дважды в год выезжают на занятия и сессии Центрального института заочного обучения педагогов-музыкантов в Москву, преподаватель по классу виолончели Г. Кун завершает свое заочное обучение в Ленинграде, ряд педагогов посещает краткосрочные курсы переобучения при Московской консерватории. Из этих поездок преподаватели привозят новые знания, идеи, репертуар, а главное — воодушевление: возникает ощущение связи со столицей, с современной музыкально-педагогической мыслью и практикой. Все это не могло не сказаться на уровне преподавания в музыкальной школе.
Следующий 1940/41 учебный год начался без серьезных кадровых проблем. Восстановился педагог по классу скрипки Виктор Михайлов, проходивший краткосрочную службу в рядах Красной армии, другие вакансии на струнном отделении также были закрыты. К выпуску в школе готовились учащиеся, принятые впервые в 1934-м по новой 7-летней программе. До этого в рамках музтехникума обучались пять лет, или курсов, как тогда было принято называть. Все последние годы набор увеличивался и к 1940 году достиг 50 учеников от 9 до 17 лет, начала работать группа дошкольной подготовки для музыкально одаренных детей. Педагоги школы подключились к работе с учреждениями бывшей системы Соцвоса (социального воспитания), были организованы занятия по музыке и фортепиано с воспитанниками детских домов и школы-интерната для слепых детей № 27, педагогов школы подключили к работе на курсах общего музыкального образования без отрыва от производства (КОМО).
Одним из требований времени стала модернизация системы обучения, и управление культуры выделяет значительные средства на переподготовку кадров. Организуются систематические выездные сессии Свердловского музыкального училища и Свердловской государственной консерватории имени Мусоргского, ставших методической базой для всех музыкальных учебных заведений региона. Регулярно проводились открытые уроки, методические занятия с педагогами, предварительный отбор учащихся с рекомендацией для поступления в училище и консерваторию. В это время педагоги Оммузшколы активно пользуются возможностью повышения своей квалификации — Щепановская, Нагибина. Невзорова и Зюзько дважды в год выезжают на занятия и сессии Центрального института заочного обучения педагогов-музыкантов в Москву, преподаватель по классу виолончели Г. Кун завершает свое заочное обучение в Ленинграде, ряд педагогов посещает краткосрочные курсы переобучения при Московской консерватории. Из этих поездок преподаватели привозят новые знания, идеи, репертуар, а главное — воодушевление: возникает ощущение связи со столицей, с современной музыкально-педагогической мыслью и практикой. Все это не могло не сказаться на уровне преподавания в музыкальной школе.
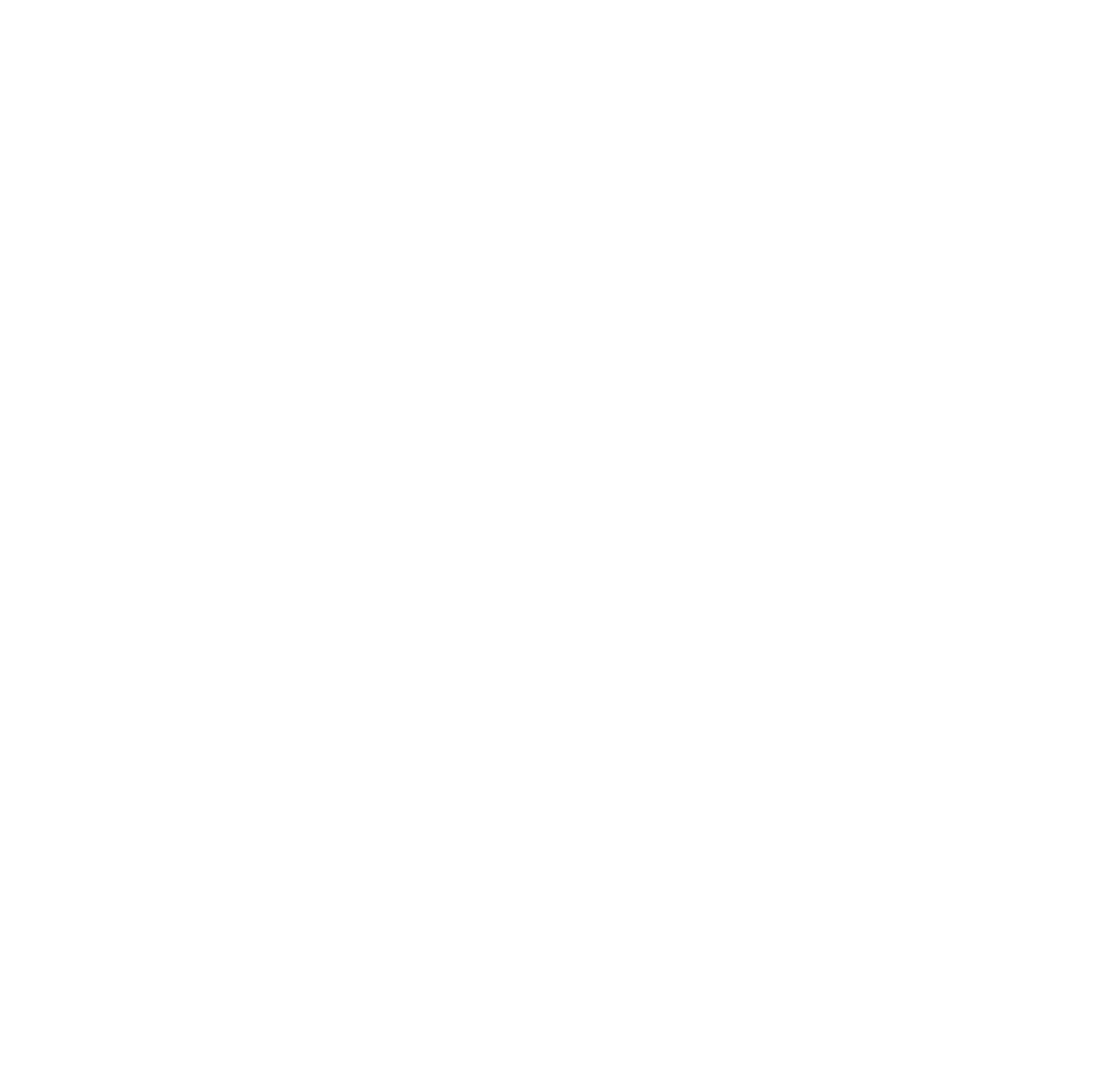
Здание школы, около 1941 года
Итоги учебного года подвела корреспондент газеты «Молодой большевик» Ю. Николаева в своей статье «Необычный концерт», опубликованной в № 68 от 5 июня 1941 года. Концерт, о котором идет речь в газете, состоялся, скорее всего, 28 мая 1941 года. (Одна из традиций Первой музыкальной школы – вручать свидетельства об окончании на торжественном выпускном концерте. В книге учета бланков и выдачи свидетельств об окончании школы напротив 6 фамилий выпускников 1941 года стоит именно эта дата).
На последней, 4-й странице газеты, рядом с сообщениями о маневрах американской армии, войне в Европе и Африке рассказ о скромных достижениях Оммузшколы: «...Смычок послушен детским пальцам. Четко и уверенно исполняет «Турецкий марш» Моцарта Петя Звегинцев. Шесть лет учится он игре на скрипке. Петя твердо решил после окончания школы поступать в музыкальное училище. Юные музыканты с искренней любовью и неподдельным чувством исполняют вальсы, польки, сонаты. Отличник Альфред Шпрах исполнил «Сонату» Гайдна, Георг Хотетицкий – «Прелюд» Глиера, в восемь рук играли «Вальс» Глинки. Этот концерт как бы подвел итоги работы учащихся музыкальной школы за год. Успешно окончили школу Люся Калугина, Ага Тимашева, Юра Темников, Федя Поспелов. Все они решили продолжать свое музыкальное образование в училище. С отличными успехами перешли в следующий класс Вова Юргенсон, Лёва Самойлов, Фира Коган, Миша Дарий, Женя Пермитин и другие».
Еще одна выдержка из статьи: «Двадцать один год существует Омская музыкальная школа. Много способных музыкантов и преподавателей начинали в ней свое образование. Сейчас многие выпускники школы учатся в Омском музыкальном училище, иные — в консерваториях. Так, выпускник Вятских успешно окончил Ленинградскую консерваторию, воспитанники школы Попов, Лехем, Гавизюк учатся в Свердловской консерватории, Струнина и Чухлина — в Московском музыкальном училище… А в школу приходят все новые и новые ученики. Педагогический коллектив умело прививает ребятам любовь к музыке, трудолюбие, добивается упорной систематической работы каждого учащегося. Много и хорошо работают опытные преподаватели С. Ф. Десятниковаа, Е. В. Колосова, Н. Н. Нагибина, А. П. Бейнинг и другие». И по ритуальной традиции ранней советской журналистики автор завершает статью критическим пассажем: «Наплыв в школу большой, но условия работы в Омской музыкальной школе плохие. Школа не имеет своего помещения и ютится в здании школы № 35. Занятия проводятся в третью смену, ребята не имеют возможности готовить уроки, так как все классы, где стоят инструменты, днем бывают заняты. Общественным организациям следует проявить больше заботы о музыкальной школе и создать нормальные условия для ее работы». Несомненно, такое завершение статьи в официальном печатном органе Омского обкома и горкома ВЛКСМ случайным быть не могло, в недалеком будущем школу должны были ждать перемены, скорее всего, решение о предоставлении школе других помещений уже было проработано. Впереди было лето 1941 года, учащихся распустили по домам, уже открылись летние пионерские лагеря, формировались команды для Иртышской гребной регаты…
21 июня 1941 года было последним официальным рабочим днем учебного года Омской детской музыкальной школы. Завершены занятия, написаны отчеты, впереди педагогам предстояли 48 дней отпуска. Директор школы Ядвига Элигиевна Щепановская выпустила приказ о назначении временного исполняющего своих обязанностей на период отсутствия в городе — готовилась уехать в Москву на очередную сессию Всесоюзного заочного музыкально-педагогического института, где оканчивала III курс, намереваясь появиться в школе только 18 августа. Все как обычно, нет причин менять планы, куплены билеты, но…
На последней, 4-й странице газеты, рядом с сообщениями о маневрах американской армии, войне в Европе и Африке рассказ о скромных достижениях Оммузшколы: «...Смычок послушен детским пальцам. Четко и уверенно исполняет «Турецкий марш» Моцарта Петя Звегинцев. Шесть лет учится он игре на скрипке. Петя твердо решил после окончания школы поступать в музыкальное училище. Юные музыканты с искренней любовью и неподдельным чувством исполняют вальсы, польки, сонаты. Отличник Альфред Шпрах исполнил «Сонату» Гайдна, Георг Хотетицкий – «Прелюд» Глиера, в восемь рук играли «Вальс» Глинки. Этот концерт как бы подвел итоги работы учащихся музыкальной школы за год. Успешно окончили школу Люся Калугина, Ага Тимашева, Юра Темников, Федя Поспелов. Все они решили продолжать свое музыкальное образование в училище. С отличными успехами перешли в следующий класс Вова Юргенсон, Лёва Самойлов, Фира Коган, Миша Дарий, Женя Пермитин и другие».
Еще одна выдержка из статьи: «Двадцать один год существует Омская музыкальная школа. Много способных музыкантов и преподавателей начинали в ней свое образование. Сейчас многие выпускники школы учатся в Омском музыкальном училище, иные — в консерваториях. Так, выпускник Вятских успешно окончил Ленинградскую консерваторию, воспитанники школы Попов, Лехем, Гавизюк учатся в Свердловской консерватории, Струнина и Чухлина — в Московском музыкальном училище… А в школу приходят все новые и новые ученики. Педагогический коллектив умело прививает ребятам любовь к музыке, трудолюбие, добивается упорной систематической работы каждого учащегося. Много и хорошо работают опытные преподаватели С. Ф. Десятниковаа, Е. В. Колосова, Н. Н. Нагибина, А. П. Бейнинг и другие». И по ритуальной традиции ранней советской журналистики автор завершает статью критическим пассажем: «Наплыв в школу большой, но условия работы в Омской музыкальной школе плохие. Школа не имеет своего помещения и ютится в здании школы № 35. Занятия проводятся в третью смену, ребята не имеют возможности готовить уроки, так как все классы, где стоят инструменты, днем бывают заняты. Общественным организациям следует проявить больше заботы о музыкальной школе и создать нормальные условия для ее работы». Несомненно, такое завершение статьи в официальном печатном органе Омского обкома и горкома ВЛКСМ случайным быть не могло, в недалеком будущем школу должны были ждать перемены, скорее всего, решение о предоставлении школе других помещений уже было проработано. Впереди было лето 1941 года, учащихся распустили по домам, уже открылись летние пионерские лагеря, формировались команды для Иртышской гребной регаты…
21 июня 1941 года было последним официальным рабочим днем учебного года Омской детской музыкальной школы. Завершены занятия, написаны отчеты, впереди педагогам предстояли 48 дней отпуска. Директор школы Ядвига Элигиевна Щепановская выпустила приказ о назначении временного исполняющего своих обязанностей на период отсутствия в городе — готовилась уехать в Москву на очередную сессию Всесоюзного заочного музыкально-педагогического института, где оканчивала III курс, намереваясь появиться в школе только 18 августа. Все как обычно, нет причин менять планы, куплены билеты, но…
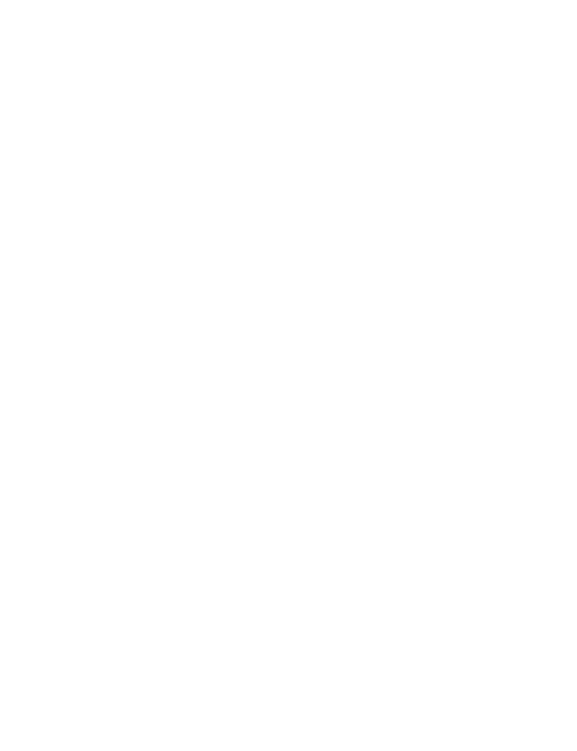
Директор школы Ядвига Элигиевна Щепановская
На работу директор возвращается уже 28 июня, приказ об этом за № 59 я нашел в архиве омской ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича. Перед школой маячила угроза закрытия — Омский областной отдел по делам искусств всерьез размышлял над упразднением школ. Педагогов пока не увольняли, но запретили все отпуска и командировки на сессии. В первые дни войны стало ясно, что начать учебный 1941/42 год как обычно не получится. В июле директора предупредили, что здание начальной школы № 35 на улице 10 лет Октября, где школа размещалась последние несколько лет, будет передано одному из эвакогоспиталей, к формированию которых только стал приступать Омский облисполком. Скорее всего (документальных подтверждений этому найдено не было), Ядвига Щепановская начинает поиски другого места для школы, но свободных помещений в Омске на тот момент не было. Все более-менее пригодные здания изымаются для нужд военной администрации: комендатура, призывные пункты, военные учебные заведения и, конечно же, госпитали, очень много госпиталей. Ситуация на фронтах летом 1941-го была критической, оценка возможного продвижения немецко-фашистских войск вглубь страны была настолько пессимистичной, что настоящим тылом могли считать только Урал, Сибирь и Среднюю Азию. Многим казалось, что обучению детей музыке в это время не найдется места. Тюменская музыкальная школа, также подотчетная Омскому областному отделу культуры, уже упразднена, даже несмотря на то, что был осуществлен весенний набор, инструменты сданы на хранение работникам школы, найти помещение для учебных классов не удалось. История должна была повториться в Омске, но спасла та самая старая проблема, с которой тщетно боролись много лет, — отсутствие у школы своего собственного помещения и ее арендные классы по всему городу.
Ядвига Щепановская возвращается к модели, с которой она сама когда-то начинала свою работу в 1920-е, — домашнее обучение. Было разрешено педагогам-штатникам и совместителям проводить уроки в своих квартирах, а коллективные занятия организовать на базе Омского музыкального училища. Возможно, именно эта 20-летняя связь школы и училища, единство и дружба педагогов, общие ученики, в конце концов, сделали этот переезд возможным. К 1 августа школа снова получила несколько помещений в здании на Рабфаковской улице в, как это официально называлось тогда, цокольном этаже, а на самом деле школа снова спустилась в тот самый полуподвал, из которого, казалось, уже окончательно переехала в 1935-м. Если анализировать приказы по учебному заведению за это время, то видно, что процесс объединения материальных ресурсов проходил стремительно. Школе пришлось уволить весь технический персонал и выплатить всем двухнедельное выходное пособие. Музыкальные инструменты передаются во временное пользование педагогам школы и тем родителям, которые были готовы принимать в своих квартирах групповые и индивидуальные занятия. Подобное происходило не только в Омске, есть свидетельства, что за «аренду» таких классов, например, в Кирове школа выделяла семьям дополнительные дрова. Сомневаться в том, что так было и в нашем городе, оснований нет.
Назначенные на 21−28 августа 1941 года вступительные испытания никто не отменяет, план по учебным местам остается на довоенном уровне: 50−60 учащихся. На объявления в городских газетах о наборе в музыкальную школу откликнулись 114 детей.
Сохранилась ведомость приемных испытаний 1941 года. Это очень любопытный документ. Он раскрывает подход школы к формированию, как тогда говорили, «контингента учащихся». Испытуемые должны были исполнить знакомую песню, постараться запомнить новую мелодию, определить количество звуков в аккорде и выполнить ряд ритмических упражнений. При этом задания для всех одинаковые — и для будущих пианистов, и для струнников, и для духовиков, и для исполнителей на народных инструментах. Большое значение придавалось «степени музыкальной подготовки» детей. Посмотрим, на что обращали внимание экзаменаторы: «Пузырев Вова 7−8 лет 4 месяца у Уфимцевой. Не подбирает. Дома поет. Часто слушает патефон и радио», «Ходыш Эсфирь 8 лет. Подбирает по слуху, поет, определение количества звуков в аккорде 3 звука, свободно». Кто-то из детей владеет инструментом, кто-то совершенно нет. Это учитывается при распределении, зачисляют не только в первый класс, но и во второй, и в третий, и в четвертый. Наличие инструмента в доме — несомненный плюс, и при прочих равных место получает такой ученик. Однако есть в ведомости пара ребят, получивших на экзамене очень низкий балл — «посредственно» или даже «плохо», и наличие инструмента их зачислению не помогло. Некоторым детям предлагают поступить на другой инструмент. Хорошо показавшему себя на экзаменах по скрипке Позднякову, несмотря на наличие инструмента, предложили поступить в класс виолончели, так же, как Воринцевой и Шитикову, а Боре Хайкину рекомендовали занятия на альте. Юра Дворкин, желавший обучаться на духовых инструментах и получивший по итогам испытаний «хорошо с плюсом», тем не менее не был принят — в итоговом протоколе зачисленных учеников напротив строки «духовые инструменты» стоит прочерк.
Некоторым детям, в основном из старших классов общеобразовательных школ, рекомендуют поступить на курсы общего музыкального образования (КОМО), в одном случае экзаменуемой было рекомендовано продолжать брать частные уроки. Решение о зачислении принималось итоговой комиссией после завершения всех приемных испытаний, и, тем не менее, некоторым детям отказали в приеме на месте «ввиду слабого развития».
Ядвига Щепановская возвращается к модели, с которой она сама когда-то начинала свою работу в 1920-е, — домашнее обучение. Было разрешено педагогам-штатникам и совместителям проводить уроки в своих квартирах, а коллективные занятия организовать на базе Омского музыкального училища. Возможно, именно эта 20-летняя связь школы и училища, единство и дружба педагогов, общие ученики, в конце концов, сделали этот переезд возможным. К 1 августа школа снова получила несколько помещений в здании на Рабфаковской улице в, как это официально называлось тогда, цокольном этаже, а на самом деле школа снова спустилась в тот самый полуподвал, из которого, казалось, уже окончательно переехала в 1935-м. Если анализировать приказы по учебному заведению за это время, то видно, что процесс объединения материальных ресурсов проходил стремительно. Школе пришлось уволить весь технический персонал и выплатить всем двухнедельное выходное пособие. Музыкальные инструменты передаются во временное пользование педагогам школы и тем родителям, которые были готовы принимать в своих квартирах групповые и индивидуальные занятия. Подобное происходило не только в Омске, есть свидетельства, что за «аренду» таких классов, например, в Кирове школа выделяла семьям дополнительные дрова. Сомневаться в том, что так было и в нашем городе, оснований нет.
Назначенные на 21−28 августа 1941 года вступительные испытания никто не отменяет, план по учебным местам остается на довоенном уровне: 50−60 учащихся. На объявления в городских газетах о наборе в музыкальную школу откликнулись 114 детей.
Сохранилась ведомость приемных испытаний 1941 года. Это очень любопытный документ. Он раскрывает подход школы к формированию, как тогда говорили, «контингента учащихся». Испытуемые должны были исполнить знакомую песню, постараться запомнить новую мелодию, определить количество звуков в аккорде и выполнить ряд ритмических упражнений. При этом задания для всех одинаковые — и для будущих пианистов, и для струнников, и для духовиков, и для исполнителей на народных инструментах. Большое значение придавалось «степени музыкальной подготовки» детей. Посмотрим, на что обращали внимание экзаменаторы: «Пузырев Вова 7−8 лет 4 месяца у Уфимцевой. Не подбирает. Дома поет. Часто слушает патефон и радио», «Ходыш Эсфирь 8 лет. Подбирает по слуху, поет, определение количества звуков в аккорде 3 звука, свободно». Кто-то из детей владеет инструментом, кто-то совершенно нет. Это учитывается при распределении, зачисляют не только в первый класс, но и во второй, и в третий, и в четвертый. Наличие инструмента в доме — несомненный плюс, и при прочих равных место получает такой ученик. Однако есть в ведомости пара ребят, получивших на экзамене очень низкий балл — «посредственно» или даже «плохо», и наличие инструмента их зачислению не помогло. Некоторым детям предлагают поступить на другой инструмент. Хорошо показавшему себя на экзаменах по скрипке Позднякову, несмотря на наличие инструмента, предложили поступить в класс виолончели, так же, как Воринцевой и Шитикову, а Боре Хайкину рекомендовали занятия на альте. Юра Дворкин, желавший обучаться на духовых инструментах и получивший по итогам испытаний «хорошо с плюсом», тем не менее не был принят — в итоговом протоколе зачисленных учеников напротив строки «духовые инструменты» стоит прочерк.
Некоторым детям, в основном из старших классов общеобразовательных школ, рекомендуют поступить на курсы общего музыкального образования (КОМО), в одном случае экзаменуемой было рекомендовано продолжать брать частные уроки. Решение о зачислении принималось итоговой комиссией после завершения всех приемных испытаний, и, тем не менее, некоторым детям отказали в приеме на месте «ввиду слабого развития».
Это может показаться невероятным, но мне удалось пообщаться с одним из участников первого военного набора в школу. Мэра Горловецкая, известный музыкант-педагог с 65-летним стажем преподавательской работы, заслуженный работник культуры РФ, прекрасно помнит 21 августа 1941 года, когда ей пришлось проходить вступительные испытания:
Это было в кабинете на втором этаже здания училища, такой класс с очень маленьким квадратным окошком. Меня привела мама. Помню, выполнила все задания педагогов, меня похвалили. И вот мы выходим из кабинета, а вместе с нами Нелли Николаевна Нагибина, мой педагог, и говорит, показывая маме на меня: „Вот эту я Вам не отдам, эта станет музыкантом“. Дело в том, что моя старшая сестра Соня тоже окончила Первую школу, но в музыку не пошла.
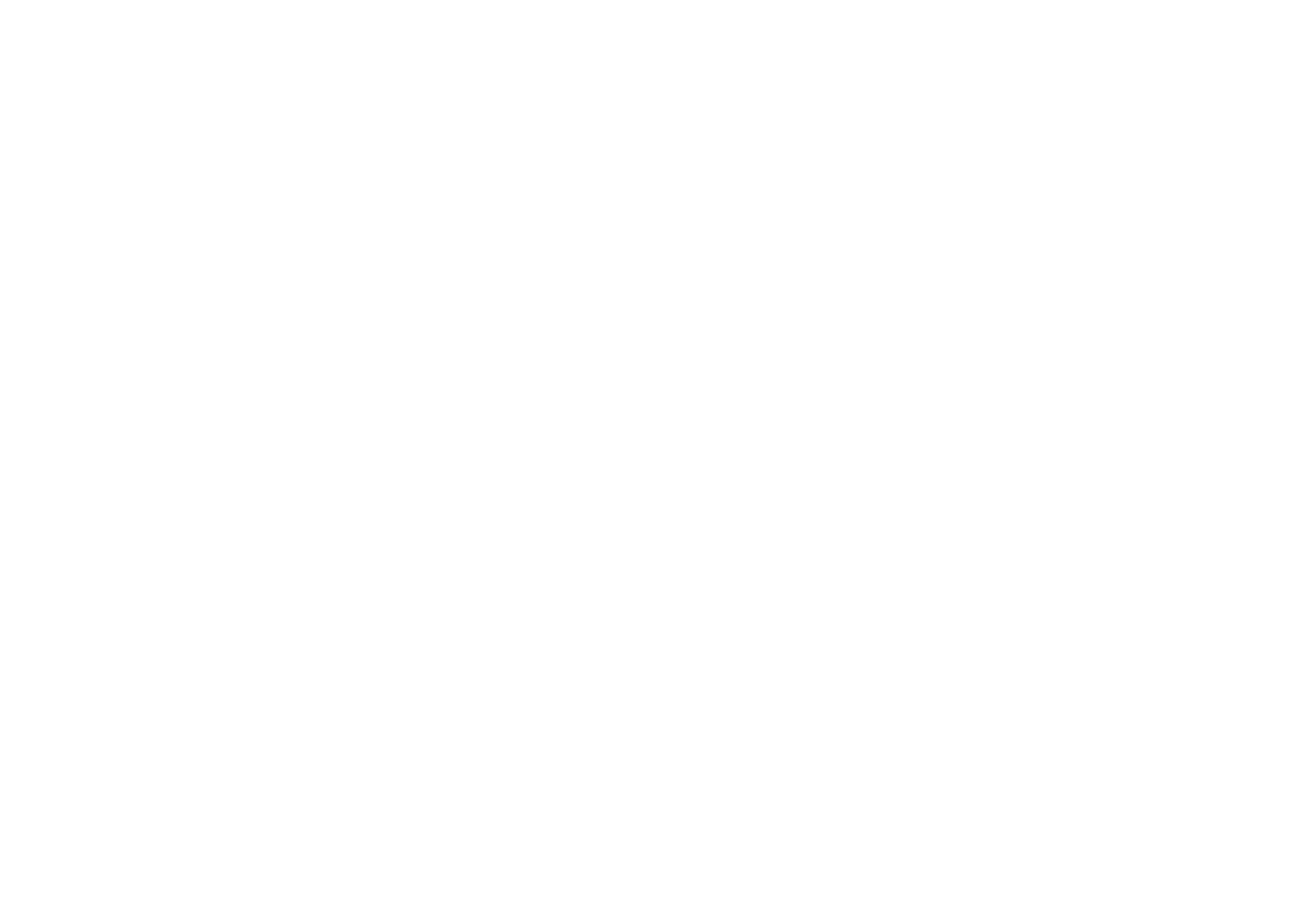
Класс Н.Н. Нагибиной
Среди 11 школьников, участвовавших в тот день в отборе для обучения на фортепиано, Мэра единственная, кто получил наивысший балл «отлично», а по итогам всех дней экзаменов осталась единственной с отметкой «отлично» во всех 4-х графах ведомости. Что запомнила девочка, которой в 1941 году было восемь лет, — это чудесное отношение своего педагога, это уроки у Нелли Нагибиной на квартире, где стояло старое пианино и печка-буржуйка, у которой страшными военными зимами перед уроком обязательно надо было «греть ручки». Пока не закончился урок с другим учеником, можно ждать своей очереди в деревянном кресле-качалке. В памяти Мэры отложился путь пешком от дома на Тарской в любую погоду через мост и вниз к Омке, где тогда жила ее педагог.
Нелли Николаевна была очень строгим наставником, — вспоминает Мэра, — и замечательным учителем, следила за постановкой руки, и чтобы локти не висели. Мне так повезло. Это я поняла позднее, когда, приехав в Ленинград, не почувствовала, что чем-то отличаюсь от тех детей, кто учился в местной десятилетке при консерватории. У меня остались об Омске только самые нежные воспоминания.
Предлагаю еще раз заглянуть в итоговый протокол приемных испытаний за 1941/42 учебный год. В школу зачислен 61 ребенок, распределение по специальностям следующее: фортепиано – 22 ученика, скрипка – 8 учеников, альт и виолончель – по одному ученику, четверо приняты в класс баяна, пятеро на народные инструменты – гитара и мандолина. Сформирован и большой класс дошкольного воспитания из 20 ребятишек. На календаре 28 августа 1941 года, в списках учеников уже появляются дети из Москвы и Ленинграда…
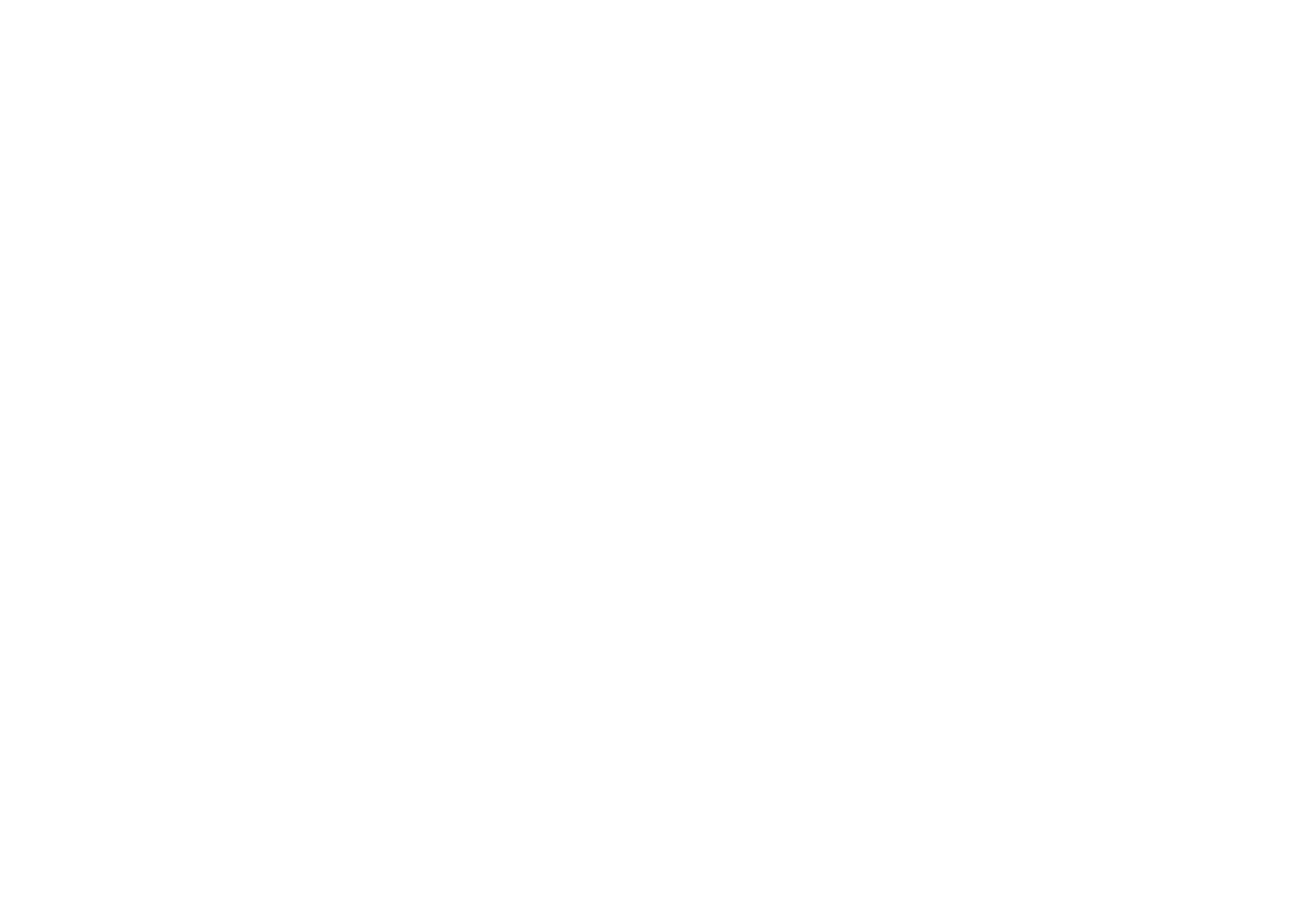
Протокол о приеме
Из воспоминаний преподавателя скрипки ДШИ № 1 им. Янкелевича Валентины Николаевны Воробьевой:
Я прекрасно помню наш эшелон до Кирова, куда был эвакуирован папин завод. Это был бесконечный поезд из товарных вагонов, платформ, пассажирских вагонов. Вы знаете, в нашем составе эвакуировали и животных московского зоопарка, я помню почему-то жирафа. Поезд шел медленно-медленно, мне тогда казалось, что мы ехали целый месяц и наступила зима, хотя, конечно, была осень, и на остановках папа выскакивал из поезда и всегда что-то находил; помню, в лесочке насобирал каких-то кислых ягод, а поезд тронулся, и мы испугались, что папа его не догонит. Было страшно в Ярославле, мы как раз оказались на станции, когда началась бомбежка и мы бежали как можно дальше от вагонов и бросались на землю прямо в грязь в центре привокзальной площади. Мы думали, горит весь город, а это горели составы на станции и один из цехов завода по производству краски.
В сентябре 1941 года война докатилась до Омска. Сначала волнами прибывали эшелоны с ранеными и первыми организованными эвакуированными специалистами, добирались первые стихийные беженцы из Киева, Минска, Одессы, других городов Украины и Белоруссии. Пару недель спустя волны эвакуации превратились в сплошной поток. В город, где до войны проживало около 240 тысяч человек, ежедневно прибывало от нескольких сотен до полутора тысяч советских граждан, в основном женщины, дети и старики. Исключение составляли эвакуированные специалисты – инженеры, рабочие, ученые, артисты, музыканты. Их всех нужно было принять, обеспечить жильем, пристроить к работам и накормить. Омск последний раз сталкивался с такими массами беженцев в 1920 году, в Гражданскую. Хотя тогда, кажется, так, как в 1941-м, не уплотняли. Здание музыкального училища на Рабфаковской передают прокуратуре, педагоги и студенты спускаются по лестнице вниз, в тот самый подвал, где уже разместили музыкальную школу. С этого момента и до конца войны всю радость и печаль, счастливые моменты и трагедии школа и училище переживали вместе в условиях, которые невозможно сегодня представить. Когда смотришь на фотографии педагогов, сделанные для новых личных дел в 1945 году, видишь их уставшие, изможденные лица, сильно постаревшие за четыре года, пережитых в тылу...
1 сентября школа принимает на работу первых эвакуированных музыкантов. Это Генрих Хумек, выпускник Киевской консерватории, дипломант Международного конкурса скрипачей, Лазарь Марьясин, преподаватель Московского музыкального училища, выпускник Московской консерватории.
1 сентября школа принимает на работу первых эвакуированных музыкантов. Это Генрих Хумек, выпускник Киевской консерватории, дипломант Международного конкурса скрипачей, Лазарь Марьясин, преподаватель Московского музыкального училища, выпускник Московской консерватории.
В сентябре 1941 года война докатилась до Омска. Сначала волнами прибывали эшелоны с ранеными и первыми организованными эвакуированными специалистами, добирались первые стихийные беженцы из Киева, Минска, Одессы, других городов Украины и Белоруссии. Пару недель спустя волны эвакуации превратились в сплошной поток. В город, где до войны проживало около 240 тысяч человек, ежедневно прибывало от нескольких сотен до полутора тысяч советских граждан, в основном женщины, дети и старики. Исключение составляли эвакуированные специалисты — инженеры, рабочие, ученые, артисты, музыканты. Их всех нужно было принять, обеспечить жильем, пристроить к работам и накормить. Омск последний раз сталкивался с такими массами беженцев в 1920 году, в Гражданскую. Хотя тогда, кажется, так, как в 1941-м, не уплотняли. Здание музыкального училища на Рабфаковской передают прокуратуре, педагоги и студенты спускаются по лестнице вниз, в тот самый подвал, где уже разместили музыкальную школу. С этого момента и до конца войны всю радость и печаль, счастливые моменты и трагедии школа и училище переживали вместе в условиях, которые невозможно сегодня представить. Когда смотришь на фотографии педагогов, сделанные для новых личных дел в 1945 году, видишь их уставшие, изможденные лица, сильно постаревшие за четыре года, пережитых в тылу…
1 сентября школа принимает на работу первых эвакуированных музыкантов. Это Генрих Хумек, выпускник Киевской консерватории, дипломант Международного конкурса скрипачей, Лазарь Марьясин, преподаватель Московского музыкального училища, выпускник Московской консерватории. Прибывший из Одессы педагог по классу скрипки Одесской музыкальной школы им. Чайковского Ефим Лисянский трудоустроен 13 сентября, а Ирина Рассокина, преподаватель скрипки музыкальной школы Фрунзенского района г. Москвы, — двумя днями позже.
1 сентября школа принимает на работу первых эвакуированных музыкантов. Это Генрих Хумек, выпускник Киевской консерватории, дипломант Международного конкурса скрипачей, Лазарь Марьясин, преподаватель Московского музыкального училища, выпускник Московской консерватории. Прибывший из Одессы педагог по классу скрипки Одесской музыкальной школы им. Чайковского Ефим Лисянский трудоустроен 13 сентября, а Ирина Рассокина, преподаватель скрипки музыкальной школы Фрунзенского района г. Москвы, — двумя днями позже.
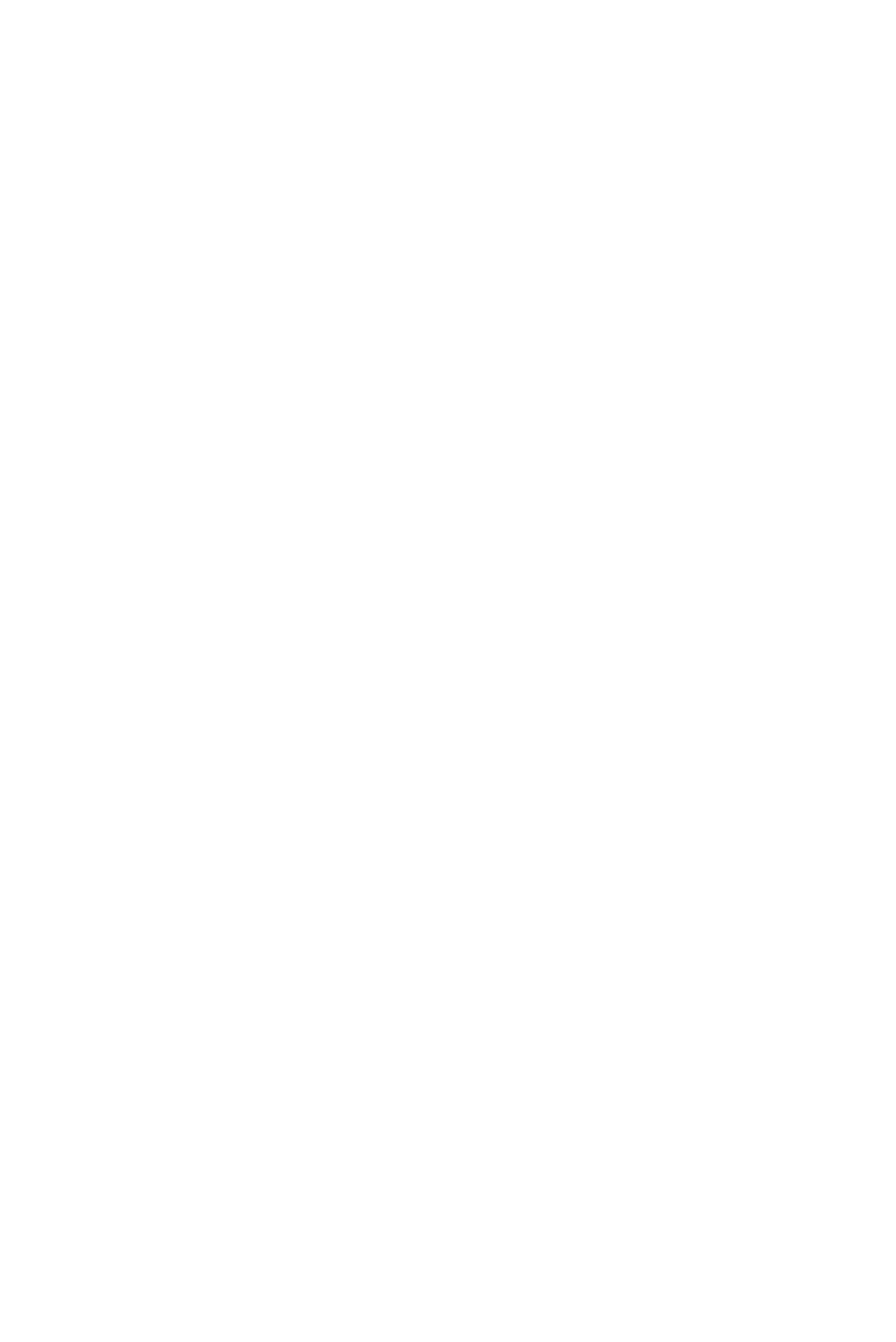
Генрих Хумек
выпускник Киевской консерватории
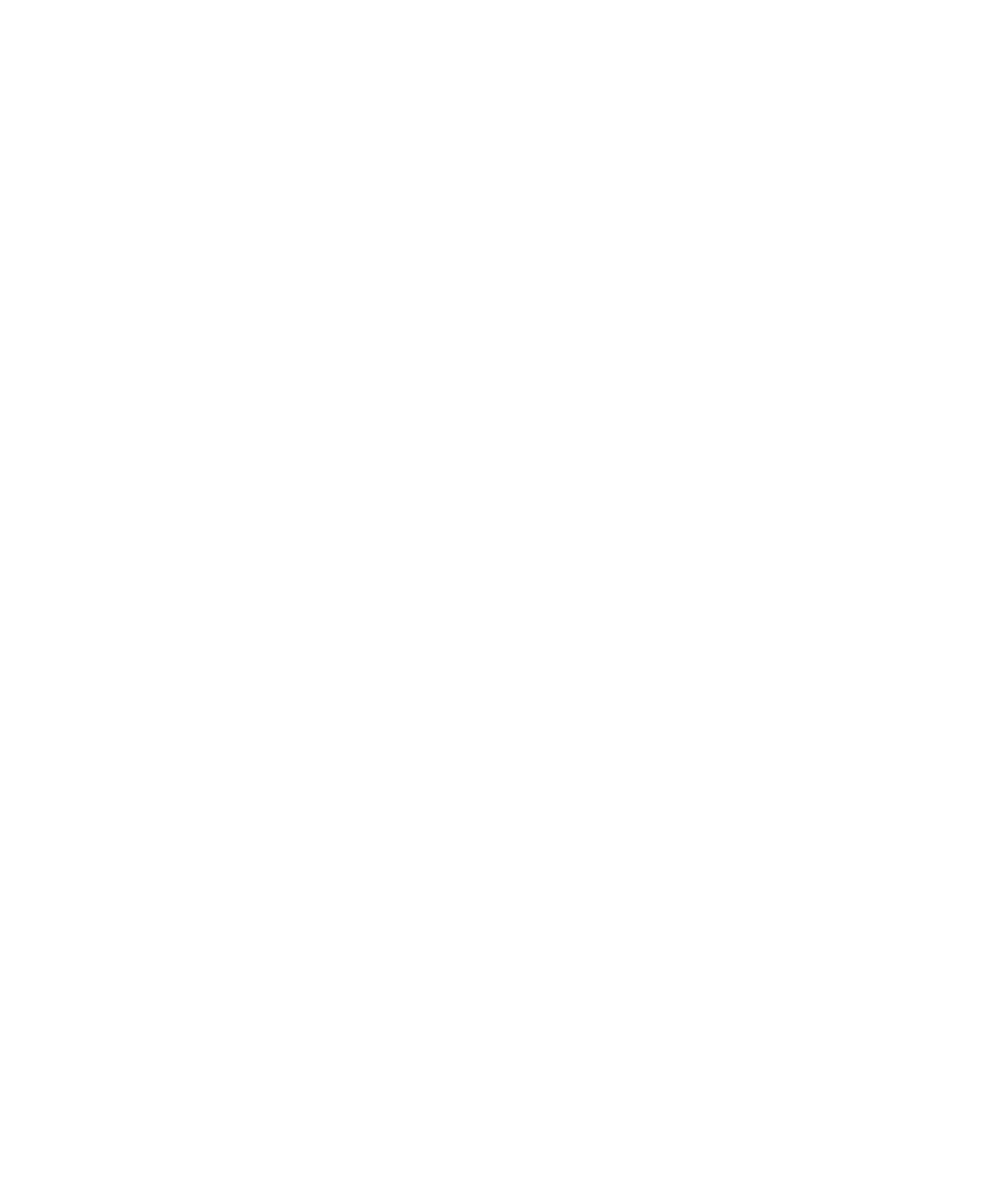
Приказ о приеме и перемещении преподавателей
Мы можем только предполагать, почему Ядвига Щепановская берет на работу сразу такое количество скрипачей. В школе к началу учебного года из педагогов-скрипачей остался только студент училища тов. Зорин; то, что Виктор Михайлов не вернется с военных сборов, было ясно давно. Брать на работу только мужчин в то время означало рисковать потерей педагога и срывом учебного процесса. Среди приказов о назначении по школе в это время часто можно встретить такие, где записи о приеме и увольнении в связи с переводом или призывом в ряды РККА укладываются в несколько месяцев, иногда даже меньше. Как выяснилось позднее, директор школы была права. Уже в декабре преподаватель Зорин поступает в медицинский институт, а Генрих Хумек задействован в большом числе концертов и не может работать на полную ставку. Заглядываю в список классов 1942 года: у преподавателя фортепиано Серафимы Десятниковой числится 32 учащихся, из которых 25 обучались фортепиано по специальности, остальные — по программе общего фортепиано, у Веры Сливинской — 31, и так практически у каждого педагога.
Такова специфика работы музыкальной школы, что осенние месяцы довольно бедны на события. Осень – это время повторения пройденного, разучивания нового репертуара, пора обыденной работы в классах и на дому у педагогов. Это наглядно отражено в архиве Первой музыкальной школы. И, тем не менее, одна из записей сразу привлекает внимание: программа выступления у подшефников в госпитале, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Концерт, которым Первая омская музыкальная школа будет гордиться всегда.
Надо четко себе представлять те ощущения, с которыми жили советские граждане в тылу осенью сорок первого. Страна еще не обвыклась с войной, все считали, что судьба вершится там, на фронте. Многие, кого не призывали немедленно в войска, испытывали глубочайшее разочарование и стыд, многие боялись не успеть повоевать. Но Москва уже понимала, что война станет новой формой существования Советского государства на долгие месяцы, и начала перестраивать жизнь, торопясь, но не спеша. «Война — это такая особая жизнь» — мы никогда не сможем этого осознать, если не окажемся там и тогда. В Сибири жены и матери, конечно, уже получали похоронки, а рабочие и служащие начали платить увеличенные ставки подоходного налога, но боль и беда были пока далеко. Изменилось это мгновенно — когда пришли первые эшелоны с ранеными. Омский исполком, как оказалось, не смог обеспечить быструю разгрузку санитарных составов. Задействовали все кареты скорой помощи, все свободные машины, весь транспорт. В 1995 году слышал историю одного рабочего станции Омск. Перескажу ее. Пришел состав, подали пять скорых, несколько грузовиков, остальных надеялись увезти на трамвае. Какой-то молодой врач остолбенел от вида поступавших раненых. Махал приказом перед лицом начальника поезда и повторял: «Здесь написано двадцать тяжелых, двадцать, а тут все лежачие, нам их не на чем вывозить». Раненых отвозили на подводах к трамваю и там клали прямо на пол между сиденьями. К этому просто никто не был готов.
Приведу фрагмент воспоминаний Елены Исаевны Янкелевич, сестры Юрия Янкелевича (чье имя носит Детская школа искусств № 1 г. Омска), эвакуированной в Омск вместе с другими педагогами и студентами 2-го Московского медицинского института и оказавшейся в городе своего детства в это страшное время:
Надо четко себе представлять те ощущения, с которыми жили советские граждане в тылу осенью сорок первого. Страна еще не обвыклась с войной, все считали, что судьба вершится там, на фронте. Многие, кого не призывали немедленно в войска, испытывали глубочайшее разочарование и стыд, многие боялись не успеть повоевать. Но Москва уже понимала, что война станет новой формой существования Советского государства на долгие месяцы, и начала перестраивать жизнь, торопясь, но не спеша. «Война — это такая особая жизнь» — мы никогда не сможем этого осознать, если не окажемся там и тогда. В Сибири жены и матери, конечно, уже получали похоронки, а рабочие и служащие начали платить увеличенные ставки подоходного налога, но боль и беда были пока далеко. Изменилось это мгновенно — когда пришли первые эшелоны с ранеными. Омский исполком, как оказалось, не смог обеспечить быструю разгрузку санитарных составов. Задействовали все кареты скорой помощи, все свободные машины, весь транспорт. В 1995 году слышал историю одного рабочего станции Омск. Перескажу ее. Пришел состав, подали пять скорых, несколько грузовиков, остальных надеялись увезти на трамвае. Какой-то молодой врач остолбенел от вида поступавших раненых. Махал приказом перед лицом начальника поезда и повторял: «Здесь написано двадцать тяжелых, двадцать, а тут все лежачие, нам их не на чем вывозить». Раненых отвозили на подводах к трамваю и там клали прямо на пол между сиденьями. К этому просто никто не был готов.
Приведу фрагмент воспоминаний Елены Исаевны Янкелевич, сестры Юрия Янкелевича (чье имя носит Детская школа искусств № 1 г. Омска), эвакуированной в Омск вместе с другими педагогами и студентами 2-го Московского медицинского института и оказавшейся в городе своего детства в это страшное время:
Работать меня направили в Управление эвакогоспиталей на должность начальника лечебного отдела. В моем ведении было 32 госпиталя, каждый из которых имел свою специфику. Большинство госпиталей были, разумеется, хирургического профиля, но имелись и такие, куда направляли больных с заболеваниями нервной системы, глаз и т. п. <…> Все медики работали в Омске, что называется, на износ, с утра до вечера мне приходилось вникать в проблемы 32-х госпиталей, подыскивать врачей нужных специальностей, следить за качеством лечебной работы, вести документацию, встречать на вокзале, в основном ночью, военно-санитарные поезда и прямо на перроне распределять раненых в соответствии с их состоянием.
К ноябрю омичей уже не удивляло ничего, Омск сам стал фронтом. Город оделся в военную форму, город уплотнился, город начал трудиться пока еще в две восьмичасовые смены, пока еще этого хватало. Уплотнили и музыкальную школу. Первый этаж музыкального училища передают военной прокуратуре. По информации, которую хранят в Омском музыкальном училище им. Шебалина, для занятий музучилища, КОМО и детской музыкальной школы было оставлено подвальное помещение, «низкое, темное, сырое». Всего оказалось десять комнат, две побольше, классы 17-й и 18-й использовались как помещения для проведения коллективных занятий, хорового класса, академических концертов и экзаменов. Занимались и в кабинете директора и бывшей завуческой, небольшой кабинет № 14 принял канцелярию училища и школы, бухгалтерию, здесь же разместились библиотека музыкальной школы и учительская. В единственном оставшемся официально закрепленным за школой помещении, по словам очевидцев, было очень тесно, а стульев здесь было меньше, чем столов. И даже в этом классе шли занятия, до и после рабочего времени канцелярии и библиотеки.
В таких условиях школа продолжает работать. В ответ на искреннюю инициативу деятелей культуры региона принимается решение о формировании специальных концертных бригад и в тылу. На фронте они действуют с июля. После эвакуации в Саратов и Свердловск части Московской, Киевской, Одесской, Харьковской консерваторий со всеми педагогами и музыкантами именно эти два города становятся центрами музыкальной жизни СССР. Выясняется, что дать работу такому количеству музыкантов эти города не в состоянии. Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск и Красноярск не только принимают на постоянную работу десятки известнейших деятелей культуры страны, но и обеспечивают гастрольную деятельность во всем тыловом регионе. Мир вокруг стремительно окрашивался в монохром тяжелых будней, и только культура могла хоть как-то разорвать пелену безнадежности, затягивавшую нашу Родину с запада на восток. Мне не удалось найти документы, которые бы подтверждали официальное распределение подшефных организаций, да это и, скорее всего, невозможно было сделать: новые организации прибывали в Омск чуть ли не ежедневно. Только в городской черте в 1941 году открывается 21 эвакуационный госпиталь.
В таких условиях школа продолжает работать. В ответ на искреннюю инициативу деятелей культуры региона принимается решение о формировании специальных концертных бригад и в тылу. На фронте они действуют с июля. После эвакуации в Саратов и Свердловск части Московской, Киевской, Одесской, Харьковской консерваторий со всеми педагогами и музыкантами именно эти два города становятся центрами музыкальной жизни СССР. Выясняется, что дать работу такому количеству музыкантов эти города не в состоянии. Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск и Красноярск не только принимают на постоянную работу десятки известнейших деятелей культуры страны, но и обеспечивают гастрольную деятельность во всем тыловом регионе. Мир вокруг стремительно окрашивался в монохром тяжелых будней, и только культура могла хоть как-то разорвать пелену безнадежности, затягивавшую нашу Родину с запада на восток. Мне не удалось найти документы, которые бы подтверждали официальное распределение подшефных организаций, да это и, скорее всего, невозможно было сделать: новые организации прибывали в Омск чуть ли не ежедневно. Только в городской черте в 1941 году открывается 21 эвакуационный госпиталь.
Омская детская музыкальная школа, как нам удалось установить, взяла шефство над госпиталем № 3502, созданным на второй день войны. Госпиталь первоначально размещался в бывшем здании школы № 64 по адресу: ул. Чкалова, 33 (в наше время не сохранилось). К сожалению, официального подтверждения, что самый первый шефский концерт состоялся именно в этом здании, у нас нет, зато мы знаем, как готовились и что исполнялось на выступлении, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской революции. 2 ноября школа проводит академический концерт, первый в новом учебном году; от прежних довоенных «эстрад» отказались, новое название для таких мероприятий теперь «закрытый концерт». На концерте только педагоги, слишком маленькое помещение; то, что это не просто учебный концерт, становится ясно, если изучить другие архивные документы. Все другие концерты впоследствии проводились строго по отделениям и только первый – для всех музыкальных инструментов. Комиссия отсмотрела и оценила 30 выступавших со II по VII классы и отобрала 11 номеров для концерта в госпитале - только тех, что были сыграны на хорошо и отлично. В программе концерта 7 ноября, тем не менее, 15 номеров. Странно, что отсутствует скрипка, хотя на отборе скрипачка Абрамова получила оценку «хорошо», на концерте она отсутствовала; кстати, ее имя больше не встречается в списках школы, и свидетельства об окончании она не получала. Зато в программе значится: «стих», без уточнения автора и названия, и исполнила его Вера Цынман, отобранная среди учеников класса фортепиано, и, кажется, это и есть срочная замена скрипичного номера. Кроме того, добавился и этюд Бургмюллера на баяне в исполнении отличника второклассника Фугенфирова. Увы, больше ничего конкретного сказать про этот концерт мы не можем, живых свидетелей тех дней мы найти не смогли. Тем не менее если читатель пролистает эту книгу до конца, то станет свидетелем нашей попытки реконструировать это событие в Омске спустя 80 лет после того памятного вечера.
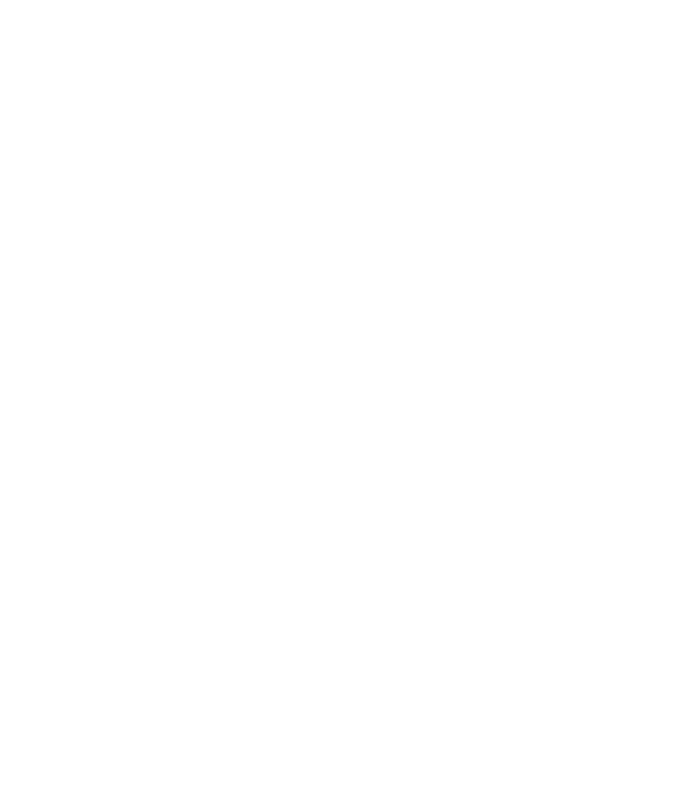
Программа концерта 7 ноября 1941 года
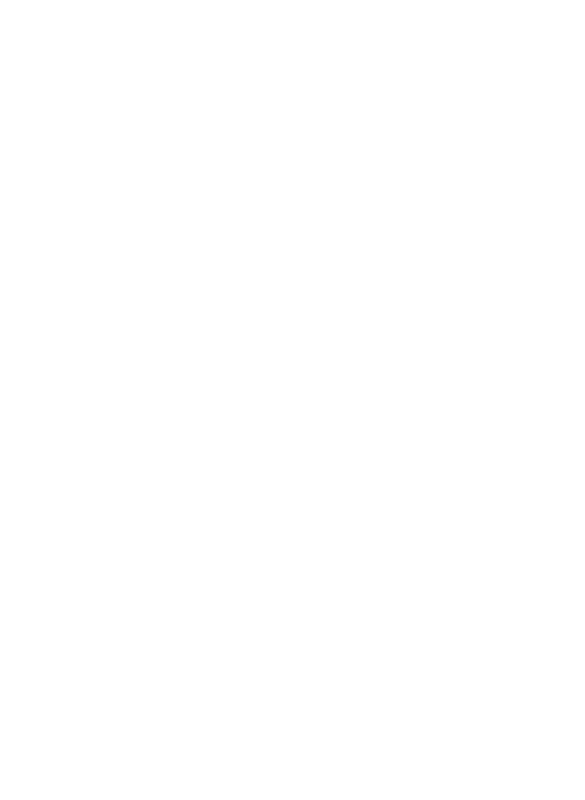
С.Ф. Десятникова, 1945 год
Зима 1942 года была довольно тяжелой. Нет, она не была особенно холодной или очень затяжной, в марте еще были морозы до минус 20, а в апреле тепло до плюс 20 с лишним, всё, как и в наши дни, с одной только разницей: невозможно было купить ни дров, ни одежды, ни обуви. Ядвига Щепановская тяжело заболела, по документам, она отсутствовала почти два месяца, и, как всегда, на этот период ее обязанности исполняла Серафима Десятникова.
В здании школы было гардеробное помещение, но им не пользовались, занимались, не снимая верхней одежды и валенок. Цены выросли существенно, кроме того, был введен военный налог, уменьшавший доходы семей еще на суммы от 5 до 9 процентов в год, а в апреле был выпущен Государственный военный заем, бывший добровольным, но де факто все работники бюджетной сферы были обязаны подписаться на суммы, равные месячному заработку, а директора и руководители организаций в зависимости от дохода — на полтора или даже два оклада. Деньги за облигации удерживались из зарплаты равными долями, но были и те, кто внес всю сумму сразу. Рацион питания в исполкомовских столовых урезали, купить продукты в лавках было практически невозможно. В маленькой кладовке цоколя разместили буфет-ларек, где можно было отоварить карточки, иногда купить что-то на обед, а учащиеся могли получать «школьные булочки». Нормы выдачи хлеба служащим устанавливались в размере 400−500 граммов в день, на ребенка полагалось 400, были еще печенье, сахар, но эти продукты часто заменялись тем, что было: рыбой, иногда консервами. С заработной платой педагога музшколы на рынок идти не было смысла, картошка продавалась по 40 рублей за килограмм — педагоги школы могли себе позволить купить только 8 килограммов на всю зарплату. «Весной чая не было ни у кого, и пили кипяток, обязанность греть воду к перемене была на истопнике школы», — вспоминал один из ветеранов школы. Концерты в госпиталях и других подшефных организациях любили еще и за то, что после них практически всегда было скромное угощение, могли и дать что-то с собой. Но концерты устраивались не для этого. «Мальчишкам хотелось под танки», — пишет о своем военном детстве Владимир Высоцкий, и эти выступления для измученных болью и чудовищным трудом людей в палатах или на предприятиях были для учащихся Оммузшколы тем самым «огнем по врагу».
Из воспоминаний Валентины Воробьевой, учащейся детской музыкальной школы № 1 города Кирова, записанных мною летом 2021 года:
Из воспоминаний Валентины Воробьевой, учащейся детской музыкальной школы № 1 города Кирова, записанных мною летом 2021 года:
Выбирали нас очень внимательно, надо было быть примерным учеником, а я вот как раз не подходила по такому ранжиру, но, наверное, чего-то там играла, и скрипочка моя звучала, а еще мне казалось, что я ПЕЛА. Госпиталь был прямо в нашей школе, и нам надо было только по коридору перейти. Помню, мы идем втроем в палату к раненым, а учитель наш отстала немного. Мальчишка был, кажется, Коля его звали, как закричит: «Там мертвецы», и мы завизжали и побежали со всей нашей дури, кричим, потому что вокруг была страшная тишина и темнота. Прибежали в палату красные, ошалелые, а военные нас приветствуют: «Здравия желаем, товарищи артисты!» У меня сохранилось еще довоенное платьице с рюшами и кружевной оборкой, в нем я выступала на концерте класса моего педагога по скрипке в госпитале, прямо в палате. Помню, мама моя говорит: «Только порви или кляксу на него поставь», и я боялась за это платье больше, чем выступать.
Я задал Валентине Николаевне неловкий вопрос: как насчет страха, детского страха, как быть ребенку, когда он знает, что дорога из кабинета в зал школы проходит по коридору с одной лампочкой, а за одной из дверей морг госпиталя, как 9-летнему ребенку слышать стоны десятков людей и продолжать радоваться жизни?
Я была веселым и жизнелюбивым ребенком и просто не могла помнить долго о чем-то печальном или страшном. Я помню один концерт в палате для раненых, это я потом поняла, что здесь лечили наших солдат с тяжелейшими ранениями лица. Я играю, вот только не могу вспомнить что, и вижу, как на одной из коек сидит человек со страшным, искореженным ранением желто-коричневым лицом, как на старинных фотографиях. И вот в этот момент мне кажется, что это лицо не человека, а обезьянье лицо. А он вдруг взлетел с кровати и только при помощи рук перепрыгнул на другую, ближе к тому месту, где я стояла. Я так вздрогнула, душа обмерла у меня, но играть я не перестала. Не хотела, чтобы мальчишки меня считали трусихой. Я его хорошо запомнила, этого «человека с обезьяньим лицом», увидела его еще однажды. Шла через площадь как-то осенью или весной, было пасмурно и слякотно, шел серый дождь, море чавкающей жижи под ногами, и он в телогрейке и на скамеечке, такой, как коляска, только вместо колес чурбачки, так вот на этой скамеечке он перебирался через площадь, такой маленький на самой огромной площади в мире… Мне его лицо снится до сих пор, но это не страх, я считаю, что это память, то, что нельзя забывать.
Раненые шутили с детьми, без злобы и печали, смотрели на нас как на своих детей, были добры и всегда чем-то нас радовали: кусочек хлеба с маслом, сахарок, галеты, разное. Я любила там бывать, мне нравился солдат, который не мог говорить, он общался руками и глазами. Как-то он попросил одного из наших мальчишек раскурить ему папиросу, а потом снял повязку, и там у него вместо рта была дыра, он курил и улыбался, и дым был вокруг его головы и шеи, нам это показалось тогда веселым фокусом.
Раненые шутили с детьми, без злобы и печали, смотрели на нас как на своих детей, были добры и всегда чем-то нас радовали: кусочек хлеба с маслом, сахарок, галеты, разное. Я любила там бывать, мне нравился солдат, который не мог говорить, он общался руками и глазами. Как-то он попросил одного из наших мальчишек раскурить ему папиросу, а потом снял повязку, и там у него вместо рта была дыра, он курил и улыбался, и дым был вокруг его головы и шеи, нам это показалось тогда веселым фокусом.
Кое-что из рассказов Валентины Николаевны я не смогу перенести на бумагу, это тяжело слушать, трудно писать и будет так же больно читать. Страшно представить, что выпало на долю детей в эти военные годы... Им было от 8 до 16, тем, кто шефствовал над палатами раненых, их никто не оберегал от правды жизни, от вида крови и запаха госпиталя, состоявшего из чудовищной смеси антисептика, еды, табака и ран.
Этот дух, – Валентина Воробьева останавливается на секунду, затем продолжает, – кажется, так и не выветрился из воспоминаний. Я вот вам сейчас это рассказываю и чувствую его. И все равно я об этом думаю с радостью. Помню, в какой-то очень теплый день я вышла из школы со скрипкой, а во дворе повсюду грелись выздоравливающие, лежали прямо на траве или прислонились к большим деревьям, все в белых пижамах на зеленом поле, как большие одуванчики. Меня подозвал военный и спросил:
– А это что у тебя в чемоданчике?
– Скрипочка, – отвечаю.
– Скрипочка? Покажи.
Я открываю футляр и протягиваю ему скрипку. Он взял ее так осторожно и сказал:
– Красивая. Поиграй нам, дочка.
И я стала играть все, что помнила, очень стараясь, и все они вокруг слушали меня, что-то говорили потом, хвалили и благодарили. Мне кажется, я играла целый час, на самом деле нет, конечно. А тот военный поманил меня к себе, посадил на колени, что-то спрашивал о моей семье, жив ли папа, есть братья или сестры. Сказал, что у него дочка такая же, как я, обнял меня и поцеловал. Потом сказал:
– Ну беги, занимайся.
Я встала, а другой военный уже держал в руках большой кулек из газеты, где были гостинцы – сахар, печенье, что-то еще, шоколад. И сказал:
– Артист за выступление должен получать награду. Не съешь по дороге, домой донеси.
Я тогда не понимала, что произошло, и была очень горда тем, что меня назвали артистом.
– А это что у тебя в чемоданчике?
– Скрипочка, – отвечаю.
– Скрипочка? Покажи.
Я открываю футляр и протягиваю ему скрипку. Он взял ее так осторожно и сказал:
– Красивая. Поиграй нам, дочка.
И я стала играть все, что помнила, очень стараясь, и все они вокруг слушали меня, что-то говорили потом, хвалили и благодарили. Мне кажется, я играла целый час, на самом деле нет, конечно. А тот военный поманил меня к себе, посадил на колени, что-то спрашивал о моей семье, жив ли папа, есть братья или сестры. Сказал, что у него дочка такая же, как я, обнял меня и поцеловал. Потом сказал:
– Ну беги, занимайся.
Я встала, а другой военный уже держал в руках большой кулек из газеты, где были гостинцы – сахар, печенье, что-то еще, шоколад. И сказал:
– Артист за выступление должен получать награду. Не съешь по дороге, домой донеси.
Я тогда не понимала, что произошло, и была очень горда тем, что меня назвали артистом.
НАДО ПРОСТО ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ
Весна 1942 года была тяжелой, остро не хватало продовольствия, и взять его было негде. Население области удвоилось, в Омске к этому времени было зарегистрировано 214 тысяч перемещенных граждан. Большинство прибыло вместе со своими предприятиями и организациями, что обеспечивало им и их семьям работу и продуктовое распределение, но были и такие, кто прибыл самостоятельно, и ими тоже надо было заниматься, пристроить к работам, кормить. Удивительно, но в такое время не бросили никого. Скудный рацион весны 1942-го обогатился с приходом тепла. Березовый сок, который до войны пили, как казалось, для удовольствия, стал ценным пищевым ресурсом, источником сахара и витаминов. Сок заготавливали и для госпиталей, и для школьников, и для рабочих, но свежий он быстро портился, и его консервировали, варили кисели, делали сиропы — они получались черными, густыми, со вкусом пригоревшего сахара, но были так желанны, так необходимы. В городе и округе собирали крапиву и одуванчики и варили «голодные щи», делали горький салат, ели «пиканы" — сердцевину борщевика, выкапывали луковицы саранки — дикой лесной лилии, настаивали молодую хвою и шишки на водке, — тем спаслись.
Включилась память прошлых поколений: за 40 лет ХХ века сибиряки голодали как минимум трижды и помнили, что делать, чтобы выжить. Весь город превратился в огород: пустыри, берега Иртыша, дворы домов. В Кировске, Ленинске, Амуре и Порт-Артуре перекопали и засадили картошкой и свеклой все малопроезжие улицы и тупики. В некоторых частях этих районов такие огороды разбивали и в 90-е и даже делают это сегодня. Историческая память. Омск стал тогда городом огородов, и местные власти не только это поощряли, но и требовали. Приусадебные участки были при каждой школе, везде, где это было возможным. Областной отдел по делам культуры также получил несколько участков в городе и в пригородном совхозе. Не сохранилось воспоминаний об огородничестве педагогов, но об огородах рассказывали мне и Сергей Поспелов, учившийся в музыкальной школе во время войны, и композитор Сергей Долгушин, сын ученицы Оммузшколы того времени Ольги Спировой: «Как зарабатывали в то время? Мама вспоминала, как бабушка (Антонина Спирова, режиссер-постановщик Омского театра музыкальной комедии) ходила каждый день на омскую пристань разгружать дрова, баржи приходили без остановки». (Здесь мог работать любой подённо или постоянно, в 1941 году единственными работниками портов, не имевшими брони, были грузчики, и они были призваны в РККА все до единого. До 1946 года в Омске эта тяжелейшая работа была «достоянием» женщин, детей и стариков. Среди них были и омские работники культуры).
Сергей Петрович Поспелов, один из музыкальной династии Поспеловых, ныне известный музыкальный деятель, дирижер, долгие годы руководивший оркестром Ростовского оперного театра, рассказывал мне, что их большой семье было очень трудно прокормиться, и папе удалось устроить Сережу в Ленинградское зенитно-прожекторное училище, готовившее во время войны офицеров в омском тылу в районе станции Куломзино, там уже служил его старший брат Федя. Занятия на своей любимой скрипке пришлось временно отложить, музыкальные воспитанники военных училищ должны были осваивать духовые инструменты, но зато мальчики были одеты, обуты и сыты, а высвободившиеся ресурсы семьи можно было распределить между другими детьми.
Что нам еще может сказать школьный архив о завершении 1941/42 учебного года в Оммузшколе? Всего год окончили 183 школьника и 15 детей дошкольной группы, четверых оставили на второй год. Можно предположить, что выпускного вечера не было, в книге выдачи свидетельств больше нет общей даты, документы выдавались с 8 июня по 11 июля, кто-то из выпускников того года смог забрать свой документ только в 1943 году. Среди выпускников в будущем известные люди Омска: Владимир Николаевич Юргенсон (в будущем директор Омского музыкального училища), Петр Иванович Звегинцев (долгие годы возглавлял Омский район, а затем работал главным редактором журнала «Земля сибирская, дальневосточная»). 12 июня школа закрывается на лето, весь коллектив отправляется в отпуск до 6 августа. Всего вместе с директором 19 человек.
Приемные испытания 1942 года проходили сложно, приходилось выкраивать часы в классах с фортепиано, отбор вели и в августе, и в сентябре, и даже 30 октября. До экзаменов допустили 112 человек — год спустя после начала войны у омичей не пропало желание учиться музыке. 45 школьников были приняты на 5 отделений, большинство, 33 ребенка, на фортепиано, на дошкольное отделение поступили все 20 детей, подавших заявление. План приема выполнен, он остается на довоенном уровне. В Тюмени также осуществлен прием детей в музыкальную школу, занятия с учетом опыта работы омских коллег будут проводиться только по домам педагогов, здания для школы в Тюмени по-прежнему не найдено. Омская музыкальная школа осенью 1942 года допустила к занятиям 172 учащихся, при этом после дополнительного набора и сдачи академической задолженности по сольфеджио количество учащихся достигает 205.
Учебный год начался так же тяжело, формально занятия стартовали с 1 сентября, фактически формирование классов продолжалось до зимы. Снова началась текучка кадров, кого-то из педагогов уволили вместе с переводом родных и близких в другие города, преподаватели по классу скрипки Марьясин и Хумек были зачислены в концертные бригады, Хумек был командирован в Красноярск, Марьясин — в Москву. Чудом удалось найти программу вечера, где Генрих Хумек выступает в г. Новосибирске 21 марта 1943 года в сольном концерте филиала Ленинградской филармонии в рамках плана на 1942/43 год. По всей видимости, артиста больше не отпускают в Омск, потому что среди приказов по школе мы находим сначала «считать тов. Хумека в отпуску без сохранения содержания», а затем задним числом «с 01 сентября уволить ввиду невозвращения из поездки на Дальний Восток».
В это время начинается инвентаризация школы, в приказе по этому вопросу много пунктов, касающихся необходимости закрыть подвешенные финансовые вопросы, погасить долги и разобраться с теми делами, где есть безнадежные задолженности. Пункт 6 приказа по школе № 12 от 1 ноября 1942 года — это своего рода иллюстрация жизни того времени: «задолженности за нерозыском и смертью». Довольно удивительно видеть, что мы не находим санкций по отношению к руководству школы в связи с нарушением ведения документов строгой отчетности. Наверное, приняли во внимание всю тяжесть ситуации, в которой оказалась школа.
Первый закрытый концерт фортепианного отделения в этом году проходит 19 ноября. В тетрадке-ведомости новый стиль ведения экзамена, напротив фамилий выступающих теперь краткие выводы, например: «не соответствует курсу», или «форсирует звук», «нет подвижности пальцев, особенно 1-го». Фортепианный отдел к этому времени возглавил известный педагог Борис Медведев, и результаты его работы стали видны уже довольно скоро. Влияние столичной школы ощущалось и струнниками, в какой-то момент все, кто преподавал скрипку, альт и виолончель, были из числа эвакуированных педагогов. Экзамены струнного отдела назывались академическими вечерами, таких в учебном году было три, один из них накануне празднования дня 8 Марта.
Включилась память прошлых поколений: за 40 лет ХХ века сибиряки голодали как минимум трижды и помнили, что делать, чтобы выжить. Весь город превратился в огород: пустыри, берега Иртыша, дворы домов. В Кировске, Ленинске, Амуре и Порт-Артуре перекопали и засадили картошкой и свеклой все малопроезжие улицы и тупики. В некоторых частях этих районов такие огороды разбивали и в 90-е и даже делают это сегодня. Историческая память. Омск стал тогда городом огородов, и местные власти не только это поощряли, но и требовали. Приусадебные участки были при каждой школе, везде, где это было возможным. Областной отдел по делам культуры также получил несколько участков в городе и в пригородном совхозе. Не сохранилось воспоминаний об огородничестве педагогов, но об огородах рассказывали мне и Сергей Поспелов, учившийся в музыкальной школе во время войны, и композитор Сергей Долгушин, сын ученицы Оммузшколы того времени Ольги Спировой: «Как зарабатывали в то время? Мама вспоминала, как бабушка (Антонина Спирова, режиссер-постановщик Омского театра музыкальной комедии) ходила каждый день на омскую пристань разгружать дрова, баржи приходили без остановки». (Здесь мог работать любой подённо или постоянно, в 1941 году единственными работниками портов, не имевшими брони, были грузчики, и они были призваны в РККА все до единого. До 1946 года в Омске эта тяжелейшая работа была «достоянием» женщин, детей и стариков. Среди них были и омские работники культуры).
Сергей Петрович Поспелов, один из музыкальной династии Поспеловых, ныне известный музыкальный деятель, дирижер, долгие годы руководивший оркестром Ростовского оперного театра, рассказывал мне, что их большой семье было очень трудно прокормиться, и папе удалось устроить Сережу в Ленинградское зенитно-прожекторное училище, готовившее во время войны офицеров в омском тылу в районе станции Куломзино, там уже служил его старший брат Федя. Занятия на своей любимой скрипке пришлось временно отложить, музыкальные воспитанники военных училищ должны были осваивать духовые инструменты, но зато мальчики были одеты, обуты и сыты, а высвободившиеся ресурсы семьи можно было распределить между другими детьми.
Что нам еще может сказать школьный архив о завершении 1941/42 учебного года в Оммузшколе? Всего год окончили 183 школьника и 15 детей дошкольной группы, четверых оставили на второй год. Можно предположить, что выпускного вечера не было, в книге выдачи свидетельств больше нет общей даты, документы выдавались с 8 июня по 11 июля, кто-то из выпускников того года смог забрать свой документ только в 1943 году. Среди выпускников в будущем известные люди Омска: Владимир Николаевич Юргенсон (в будущем директор Омского музыкального училища), Петр Иванович Звегинцев (долгие годы возглавлял Омский район, а затем работал главным редактором журнала «Земля сибирская, дальневосточная»). 12 июня школа закрывается на лето, весь коллектив отправляется в отпуск до 6 августа. Всего вместе с директором 19 человек.
Приемные испытания 1942 года проходили сложно, приходилось выкраивать часы в классах с фортепиано, отбор вели и в августе, и в сентябре, и даже 30 октября. До экзаменов допустили 112 человек — год спустя после начала войны у омичей не пропало желание учиться музыке. 45 школьников были приняты на 5 отделений, большинство, 33 ребенка, на фортепиано, на дошкольное отделение поступили все 20 детей, подавших заявление. План приема выполнен, он остается на довоенном уровне. В Тюмени также осуществлен прием детей в музыкальную школу, занятия с учетом опыта работы омских коллег будут проводиться только по домам педагогов, здания для школы в Тюмени по-прежнему не найдено. Омская музыкальная школа осенью 1942 года допустила к занятиям 172 учащихся, при этом после дополнительного набора и сдачи академической задолженности по сольфеджио количество учащихся достигает 205.
Учебный год начался так же тяжело, формально занятия стартовали с 1 сентября, фактически формирование классов продолжалось до зимы. Снова началась текучка кадров, кого-то из педагогов уволили вместе с переводом родных и близких в другие города, преподаватели по классу скрипки Марьясин и Хумек были зачислены в концертные бригады, Хумек был командирован в Красноярск, Марьясин — в Москву. Чудом удалось найти программу вечера, где Генрих Хумек выступает в г. Новосибирске 21 марта 1943 года в сольном концерте филиала Ленинградской филармонии в рамках плана на 1942/43 год. По всей видимости, артиста больше не отпускают в Омск, потому что среди приказов по школе мы находим сначала «считать тов. Хумека в отпуску без сохранения содержания», а затем задним числом «с 01 сентября уволить ввиду невозвращения из поездки на Дальний Восток».
В это время начинается инвентаризация школы, в приказе по этому вопросу много пунктов, касающихся необходимости закрыть подвешенные финансовые вопросы, погасить долги и разобраться с теми делами, где есть безнадежные задолженности. Пункт 6 приказа по школе № 12 от 1 ноября 1942 года — это своего рода иллюстрация жизни того времени: «задолженности за нерозыском и смертью». Довольно удивительно видеть, что мы не находим санкций по отношению к руководству школы в связи с нарушением ведения документов строгой отчетности. Наверное, приняли во внимание всю тяжесть ситуации, в которой оказалась школа.
Первый закрытый концерт фортепианного отделения в этом году проходит 19 ноября. В тетрадке-ведомости новый стиль ведения экзамена, напротив фамилий выступающих теперь краткие выводы, например: «не соответствует курсу», или «форсирует звук», «нет подвижности пальцев, особенно 1-го». Фортепианный отдел к этому времени возглавил известный педагог Борис Медведев, и результаты его работы стали видны уже довольно скоро. Влияние столичной школы ощущалось и струнниками, в какой-то момент все, кто преподавал скрипку, альт и виолончель, были из числа эвакуированных педагогов. Экзамены струнного отдела назывались академическими вечерами, таких в учебном году было три, один из них накануне празднования дня 8 Марта.
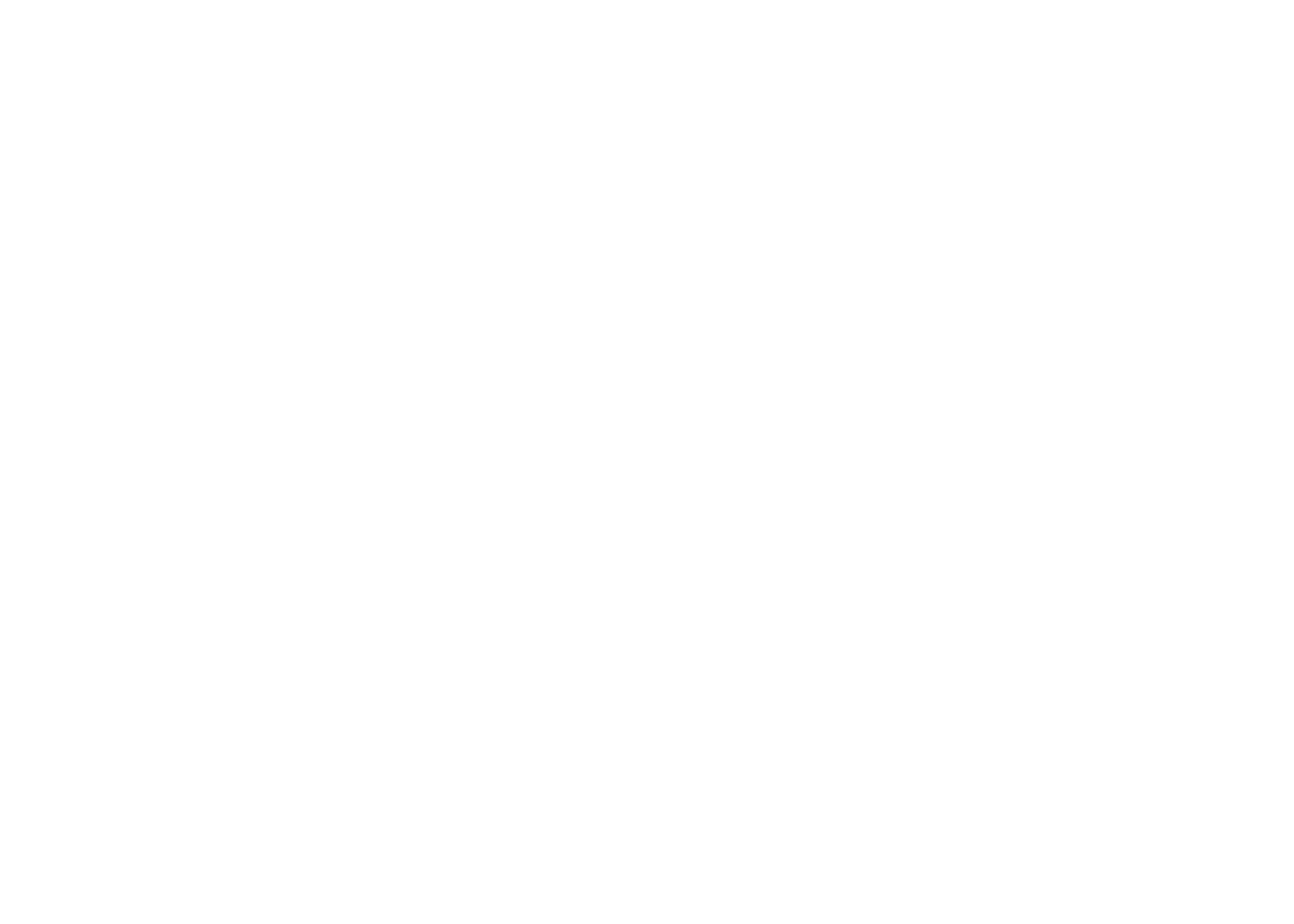
Б.В. Медведев с учениками
Концертная деятельность в этом учебном году не соответствовала возможностям школы. Конечно, серьезно относились к шефским концертам, но многие выступления проводились без ведома руководства школы, за что потом критиковались директором Ядвигой Щепановской как «самодеятельные». Но количество таких концертов, по словам директора, было «неплохим». А вот важнейшие и традиционные для школы общегородские открытые концерты в 1943 году не проводились. «И выступлений по радио не было, – пишет Ядвига Щепановская. – Это, конечно, большой минус в работе. Популяризация школы необходима – это раз. А во-вторых, открытые концерты школы дадут возможность как ребятам, так и их родителям больше знакомиться с музыкой, что, безусловно, поднимет интерес к музыке у ребят и облегчит работу с родителями». В школе это считали важным, невзирая на тяжелые условия жизни. В одной из записок встречается замечание по поводу родительских собраний, их, увы, не удалось с довоенных лет провести ни одного. Мало того, некоторые родители не являлись к директору даже по повесткам. Работу с родителями доверили педагогам, и не всегда удачно. В протоколе одного из педагогических советов встречаются строки подобного характера: «Вести точный учет явки педагогов на работу было немыслимо. Приходилось руководствоваться только словами самого педагога и словами родителей. Иногда эти слова не сходились. 13 августа 1943 г.».
В отчете областному отделу культуры по итогам года фиксируется несколько важных моментов. Всего в школе обучаются 216 детей на фортепиано, скрипке, виолончели, струнных народных инструментах и баяне, 15 учащихся выпущены. На будущий учебный год школа просит выделить 70 учебных мест, включая и увеличенную до 25 детей дошкольную группу. «Омская музыкальная школа учебными помещениями совершенно не обеспечена, групповые занятия проходят в помещении музыкального училища и лишь очень незначительная часть индивидуальных занятий (10 %). Остальные занятия проходят по квартирам педагогов. Кроме того, школа передала 3 инструмента на квартиры учащихся. Общежития школа не имеет. Особенно плохо школа обеспечена литературой для струнных инструментов». Из черновика отчета мы узнаем, что у школы нет подсобного хозяйства, что в течение года школа регулярно организовывала выступления в подшефном госпитале, и даже более того, педагоги взяли шефство над одной из палат с раненым и постоянно оказывают посильную материальную помощь больным. Уровень успеваемости достигает 92 %, плохие оценки только у 17 ребятишек.
Вот еще выдержка из черновика отчета, написанного рукой директора Щепановской:
«Учебные программы за полугодие выполнены, кроме предмета изучения музыкальной литературы, где есть отставание ввиду плохой посещаемости учащихся и частого отсутствия освещения (ненормальная подача электроэнергии). В течение 1-го полугодия школой регулярно проводились методические совещания педагогов, на которых изучались программы и методы их прохождения, обсуждались индивидуальные планы. Проводилось посещение уроков руководителя фортепианного отделения Б.М. Медведева с целью знакомства с его методами работы».
В отчете в Москву нельзя было упомянуть, что работа не проводится, потому что ушел из жизни замечательный музыкант и наставник Борис Медведев. В приказе № 1 от 17 февраля 1943 года зафиксировано его исключение из списков преподавателей Оммузшколы «за смертью». И эта потеря была не единственной. Войска шли на запад, армия эвакуированных специалистов возвращалась в те места, которые покинула в 1941 году. В Москве вновь должны были открыть все музыкальные учебные заведения, и там требовались педагоги. А пока вновь разрешили отпуска, педагоги «по личному разрешению начальника Омского областного отдела по делам искусств тов. Софронова» освобождались от работы до 5 августа, в списках 13 человек. В воспоминаниях омичей это было уже совсем другое лето, была какая-то радость, ощущение счастья, реконструировали городской сад, облагородили и открыли несколько пляжей в центре, у лодочной станции, в Ленинском и Кировском районах, работали летние площадки с музыкантами, время начала последнего сеанса в кино отодвинули на 23.00.
Летом 43-го работников музыкальной школы и училища, тех, кто мог по состоянию здоровья, включают в состав совхозных сельскохозяйственных бригад, остальные продолжали концертную деятельность. Заслуженный работник культуры Омской области, педагог-скрипач, руководитель струнного оркестра Детской школы искусств № 1 имени Янкелевича Олег Толпыгин вспоминает, что его мама Миля Звегинцева тогда занималась вокалом у Елены Калугиной, будущего создателя Омского русского народного хора, и они вдвоем очень много выступали в госпиталях и воинских частях, пели и играли на фортепиано. Такой шефской работой занимались и школьные педагоги.
В отчете областному отделу культуры по итогам года фиксируется несколько важных моментов. Всего в школе обучаются 216 детей на фортепиано, скрипке, виолончели, струнных народных инструментах и баяне, 15 учащихся выпущены. На будущий учебный год школа просит выделить 70 учебных мест, включая и увеличенную до 25 детей дошкольную группу. «Омская музыкальная школа учебными помещениями совершенно не обеспечена, групповые занятия проходят в помещении музыкального училища и лишь очень незначительная часть индивидуальных занятий (10 %). Остальные занятия проходят по квартирам педагогов. Кроме того, школа передала 3 инструмента на квартиры учащихся. Общежития школа не имеет. Особенно плохо школа обеспечена литературой для струнных инструментов». Из черновика отчета мы узнаем, что у школы нет подсобного хозяйства, что в течение года школа регулярно организовывала выступления в подшефном госпитале, и даже более того, педагоги взяли шефство над одной из палат с раненым и постоянно оказывают посильную материальную помощь больным. Уровень успеваемости достигает 92 %, плохие оценки только у 17 ребятишек.
Вот еще выдержка из черновика отчета, написанного рукой директора Щепановской:
«Учебные программы за полугодие выполнены, кроме предмета изучения музыкальной литературы, где есть отставание ввиду плохой посещаемости учащихся и частого отсутствия освещения (ненормальная подача электроэнергии). В течение 1-го полугодия школой регулярно проводились методические совещания педагогов, на которых изучались программы и методы их прохождения, обсуждались индивидуальные планы. Проводилось посещение уроков руководителя фортепианного отделения Б.М. Медведева с целью знакомства с его методами работы».
В отчете в Москву нельзя было упомянуть, что работа не проводится, потому что ушел из жизни замечательный музыкант и наставник Борис Медведев. В приказе № 1 от 17 февраля 1943 года зафиксировано его исключение из списков преподавателей Оммузшколы «за смертью». И эта потеря была не единственной. Войска шли на запад, армия эвакуированных специалистов возвращалась в те места, которые покинула в 1941 году. В Москве вновь должны были открыть все музыкальные учебные заведения, и там требовались педагоги. А пока вновь разрешили отпуска, педагоги «по личному разрешению начальника Омского областного отдела по делам искусств тов. Софронова» освобождались от работы до 5 августа, в списках 13 человек. В воспоминаниях омичей это было уже совсем другое лето, была какая-то радость, ощущение счастья, реконструировали городской сад, облагородили и открыли несколько пляжей в центре, у лодочной станции, в Ленинском и Кировском районах, работали летние площадки с музыкантами, время начала последнего сеанса в кино отодвинули на 23.00.
Летом 43-го работников музыкальной школы и училища, тех, кто мог по состоянию здоровья, включают в состав совхозных сельскохозяйственных бригад, остальные продолжали концертную деятельность. Заслуженный работник культуры Омской области, педагог-скрипач, руководитель струнного оркестра Детской школы искусств № 1 имени Янкелевича Олег Толпыгин вспоминает, что его мама Миля Звегинцева тогда занималась вокалом у Елены Калугиной, будущего создателя Омского русского народного хора, и они вдвоем очень много выступали в госпиталях и воинских частях, пели и играли на фортепиано. Такой шефской работой занимались и школьные педагоги.
НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
13 августа проходит первый педсовет школы, где директор Щепановская озвучивает итоги учебного года. Сохранился протокол этого совещания, и из него стоит привести выдержки. Секретарь Нелли Нагибина со свойственной ей педантичностью протоколирует выступление директора, не опуская эмоции, и это для нас важнее любых цифр: «Условия работы у школы были исключительно плохие: занятия по квартирам педагогов, холод, отсутствие света, исключительная перегруженность педагогов, перегрузка учащихся и жуткие условия у большинства учащихся для выполнения домашней работы. Надо отметить как великое достижение, что в таких условиях школа проработала год и добилась неплохих результатов».
Здесь считаю уместным привести несколько воспоминаний детей, занимавшихся тогда в школе. Маленькие иллюстрации вышесказанного. Дорогу в школу и комнату, где стояло пианино у Веры Сливинской, где-то за старым зданием цирка у Казачьего рынка, часто вспоминала Лола Брицкая.
«Никто детей в школу тогда не водил, и транспорта тоже не было», – рассказывает ее сестра, ветеран Первой школы Леонтина Шахматова. Трудно представить, но многие дети, в том числе и Лола, тратили по три часа в день на то, чтобы добраться до педагога и вернуться обратно домой, где их ждали еще и домашние задания. Галина Костерина, ученица Серафимы Десятниковой, в будущем долгие годы работавшая педагогом в своей родной школе, начала учиться еще до войны, и, как вспоминает ее внучка, солистка Омской областной филармонии Марина Костерина, «бабушка рассказывала, что всегда играла интересный репертуар и что редкие ноты часто приходилось переписывать от руки».
«Никто детей в школу тогда не водил, и транспорта тоже не было», – рассказывает ее сестра, ветеран Первой школы Леонтина Шахматова. Трудно представить, но многие дети, в том числе и Лола, тратили по три часа в день на то, чтобы добраться до педагога и вернуться обратно домой, где их ждали еще и домашние задания. Галина Костерина, ученица Серафимы Десятниковой, в будущем долгие годы работавшая педагогом в своей родной школе, начала учиться еще до войны, и, как вспоминает ее внучка, солистка Омской областной филармонии Марина Костерина, «бабушка рассказывала, что всегда играла интересный репертуар и что редкие ноты часто приходилось переписывать от руки».

Лола Брицкая
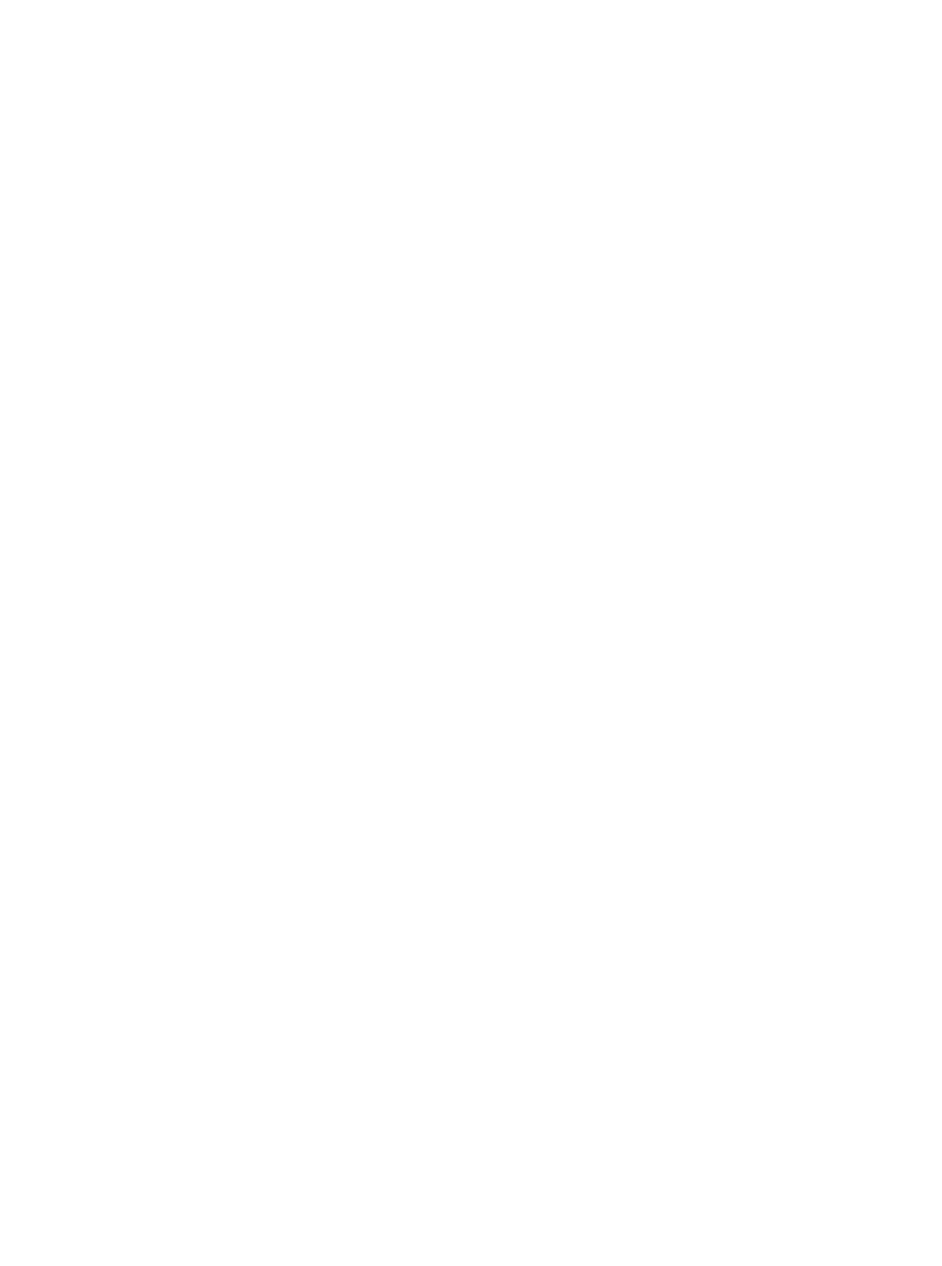
Галина Костерина (справа)
В своем отчете Ядвига Щепановская отмечает двойственность цифр отчета. Ребят, оставленных на второй год и на осень, стало больше. Это кажется плохим показателем, но, по мнению педсовета, это не так. С приходом выдающегося педагога Б. Медведева школа совершила значительный прорыв в качестве преподавания и работы с учениками, а на повышенные требования отреагировали намеренным занижением оценок ученикам, вернее, более внимательным отношением к оцениванию. Проблема также возникла с групповыми занятиями, учащиеся их посещали очень плохо, и педсовет принимает решение усилить работу по рассылке повесток родителям, а в некоторых случаях даже обязать педагогов посещать родителей на дому.
В середине войны принципы довоенной работы возвращаются в школу. Это очень символично. Свою победу школа одержала в 1943 году. Смотрите, что обсуждают педагоги: поведение хора IV классов, опоздания на уроки, прогулы педагогов (было даже такое), самовольничанье на шефских концертах. Кстати, о концертах в подшефных организациях говорилось особо. Приняли решение назначить ответственного за эту работу и проводить ее еженедельно, сделать график концертов и выбрать для каждого выступления одного педагога с двумя-тремя учениками. Оценивали и методическую работу. Предлагаю послушать директора школы: «У нас в школе 3 цикла работы: фортепианный, струнный и теоретический. У струнников и теоретиков методическая работа совершенно отсутствовала. У пианистов методическая работа была. К сожалению, я точно не могу сказать о количестве заседаний и точно о разбираемых вопросах, так как после смерти секретаря мет. совещаний Е. В. Колосовой я не смогла найти протоколов, но я со всей ответственностью заявляю, что прошло немало совещаний, мы обсудили и индивидуальные планы учащихся и знакомились с программой и учебным материалом. Но все-таки не все намеченное нами было выполнено. Конечно, причиной того, что во вторую половину учебного года у нас отсутствовала методическая работа, является смерть Б. М. Медведева. Мы как овцы, потерявшие своего пастыря, разбрелись по углам…». Директор также отметила плохую работу с родителями, отсутствие возможности собрать общее родительское собрание вот уже на протяжении двух лет. Для нас здесь важнейшей является фраза: «Я думаю, что это необходимо оживить». Посмотрим, как школа с поставленной задачей справлялась.
Прием новых учащихся в 1943 году начался позже обычного. 24 и 26 августа прослушивали пианистов, 28-го — струнников, 30-го формировали дошкольную группу, 31-го — струнные народные инструменты и баян, а 10 сентября дополнительно прослушивали ребят, желавших заниматься на фортепиано. Школе не удалось сразу набрать желаемое количество учащихся. Но это было не самой большой проблемой — учебный год было практически невозможно начать, к 1 сентября по прежним адресам убыли почти все эвакуированные педагоги. Надо понимать, что это была беда не только школы — в войну школа и училище делили пополам всё — и радости, и горе. Педагоги-совместители, уехавшие в Москву, оставили в подвешенном состоянии и своих студентов. Снова начинается время активного перемещения персонала, опытные педагоги школы, в основном пианисты, заменяют уехавших наставников в училище, а Ядвига Щепановская возглавляет фортепианную комиссию: все экзамены, концерты, отчеты, всё теперь на ней, училище, в свою очередь, командирует в состав педагогов школы лучших студентов старших курсов.
Тем не менее школа втягивалась в свой самый тяжелый год. Восстановили шефскую работу, кое-где в архиве можно найти записи на листочках о выступлениях в госпиталях с одним-двумя номерами. Такая работа не считалась концертом и, как правило, совмещалась с чтением книг бойцам или написанием писем тем, кто не мог этого делать самостоятельно. Такие посещения были еженедельно, а вот к большим концертам готовились серьезно. Первый такой в новом учебном году состоялся 14 ноября, в день 26-й годовщины Великой Октябрьской революции, исполнялось 14 номеров. В январе сделали новогоднюю инсценировку у елки и показывали раненым красноармейцам, были традиционные вечера ко Дню Красной армии и 8 Марта. Было принято решение объявить сбор денег с учеников для формирования подарков раненым в подшефном госпитале к октябрьским праздникам, а также готовить новогодние подарки фронтовикам в действующей армии. Кроме того, совместно с училищем провели ряд платных концертов, все сборы от которых направили омским семьях фронтовиков.
Закрытых школьных концертов было организовано 13, при этом пианисты начиная с декабря 1943-го выступали дважды в месяц. Довоенные результаты наконец превышены. Одной из причин оживившейся концертной работы стали не только решения педагогического совета школы, но и появившиеся дополнительные площади: школе и училищу разрешили использовать зал школы им. 8 Марта на углу улиц Пушкина и Почтовой. Здесь общешкольные мероприятия проводились даже после окончания войны еще долгое время. В Омском музыкальном училище им. Шебалина в одном из памятных исторических альбомов есть запись об этом. Рассказывали, что перед концертами или собраниями технический персонал школы и учащиеся должны были принести в зал стулья из училища, а потом вернуть их обратно. Не за горами был тот день, когда на концерты можно будет приглашать родителей…
Удивительно бережно сохранены в общем-то рядовые записи школьной жизни. Но только благодаря им мы знаем составы классов, национальную принадлежность, успеваемость учеников, темы билетов по музыкально-теоретическим предметам, и даже сохранились диктанты по сольфеджио, написанные карандашами, зажатыми слабенькими детскими ручками. Мы знаем, что будущий музыкант Ольга Спирова (класс преподавателя Т.М. Скобловой) 5 мая 1944 года получила четверку на переводном экзамене, исполнив двухголосную фугу Баха c-moll, этюд Черни-Гермера и сонатину Бетховена, что никто в школе не преследовал в годы войны с фашизмом немецкую культуру и не исключал из программы произведения великих немецких композиторов, а даже несколько лет подряд были специальные академические вечера, где исполнялась только музыка И. С. Баха. Билет № 3 на зачете по музыкальной литературе для VI класса состоял из пяти вопросов, среди которых биография Шумана, творческий облик Шопена, фортепианные произведения Шуберта, песни без слов Мендельсона и прелюдии Шопена. Эти вопросы достались Ангелине Ражевой, и она блестяще на них ответила. Мы знаем, что сестра педагога-теоретика, легенды Первой школы Леонтины Шахматовой, Лола Брицкая, видимо, расхотела заниматься и была рекомендована к исключению из школы, ухитрившись получить двойки и по фортепиано, и по теоретическим дисциплинам. Исключить не успели — отца переводят на Западную Украину, а в биографии девочки позже будут и пятерки на вступительных экзаменах в музыкальное училище.
В середине войны принципы довоенной работы возвращаются в школу. Это очень символично. Свою победу школа одержала в 1943 году. Смотрите, что обсуждают педагоги: поведение хора IV классов, опоздания на уроки, прогулы педагогов (было даже такое), самовольничанье на шефских концертах. Кстати, о концертах в подшефных организациях говорилось особо. Приняли решение назначить ответственного за эту работу и проводить ее еженедельно, сделать график концертов и выбрать для каждого выступления одного педагога с двумя-тремя учениками. Оценивали и методическую работу. Предлагаю послушать директора школы: «У нас в школе 3 цикла работы: фортепианный, струнный и теоретический. У струнников и теоретиков методическая работа совершенно отсутствовала. У пианистов методическая работа была. К сожалению, я точно не могу сказать о количестве заседаний и точно о разбираемых вопросах, так как после смерти секретаря мет. совещаний Е. В. Колосовой я не смогла найти протоколов, но я со всей ответственностью заявляю, что прошло немало совещаний, мы обсудили и индивидуальные планы учащихся и знакомились с программой и учебным материалом. Но все-таки не все намеченное нами было выполнено. Конечно, причиной того, что во вторую половину учебного года у нас отсутствовала методическая работа, является смерть Б. М. Медведева. Мы как овцы, потерявшие своего пастыря, разбрелись по углам…». Директор также отметила плохую работу с родителями, отсутствие возможности собрать общее родительское собрание вот уже на протяжении двух лет. Для нас здесь важнейшей является фраза: «Я думаю, что это необходимо оживить». Посмотрим, как школа с поставленной задачей справлялась.
Прием новых учащихся в 1943 году начался позже обычного. 24 и 26 августа прослушивали пианистов, 28-го — струнников, 30-го формировали дошкольную группу, 31-го — струнные народные инструменты и баян, а 10 сентября дополнительно прослушивали ребят, желавших заниматься на фортепиано. Школе не удалось сразу набрать желаемое количество учащихся. Но это было не самой большой проблемой — учебный год было практически невозможно начать, к 1 сентября по прежним адресам убыли почти все эвакуированные педагоги. Надо понимать, что это была беда не только школы — в войну школа и училище делили пополам всё — и радости, и горе. Педагоги-совместители, уехавшие в Москву, оставили в подвешенном состоянии и своих студентов. Снова начинается время активного перемещения персонала, опытные педагоги школы, в основном пианисты, заменяют уехавших наставников в училище, а Ядвига Щепановская возглавляет фортепианную комиссию: все экзамены, концерты, отчеты, всё теперь на ней, училище, в свою очередь, командирует в состав педагогов школы лучших студентов старших курсов.
Тем не менее школа втягивалась в свой самый тяжелый год. Восстановили шефскую работу, кое-где в архиве можно найти записи на листочках о выступлениях в госпиталях с одним-двумя номерами. Такая работа не считалась концертом и, как правило, совмещалась с чтением книг бойцам или написанием писем тем, кто не мог этого делать самостоятельно. Такие посещения были еженедельно, а вот к большим концертам готовились серьезно. Первый такой в новом учебном году состоялся 14 ноября, в день 26-й годовщины Великой Октябрьской революции, исполнялось 14 номеров. В январе сделали новогоднюю инсценировку у елки и показывали раненым красноармейцам, были традиционные вечера ко Дню Красной армии и 8 Марта. Было принято решение объявить сбор денег с учеников для формирования подарков раненым в подшефном госпитале к октябрьским праздникам, а также готовить новогодние подарки фронтовикам в действующей армии. Кроме того, совместно с училищем провели ряд платных концертов, все сборы от которых направили омским семьях фронтовиков.
Закрытых школьных концертов было организовано 13, при этом пианисты начиная с декабря 1943-го выступали дважды в месяц. Довоенные результаты наконец превышены. Одной из причин оживившейся концертной работы стали не только решения педагогического совета школы, но и появившиеся дополнительные площади: школе и училищу разрешили использовать зал школы им. 8 Марта на углу улиц Пушкина и Почтовой. Здесь общешкольные мероприятия проводились даже после окончания войны еще долгое время. В Омском музыкальном училище им. Шебалина в одном из памятных исторических альбомов есть запись об этом. Рассказывали, что перед концертами или собраниями технический персонал школы и учащиеся должны были принести в зал стулья из училища, а потом вернуть их обратно. Не за горами был тот день, когда на концерты можно будет приглашать родителей…
Удивительно бережно сохранены в общем-то рядовые записи школьной жизни. Но только благодаря им мы знаем составы классов, национальную принадлежность, успеваемость учеников, темы билетов по музыкально-теоретическим предметам, и даже сохранились диктанты по сольфеджио, написанные карандашами, зажатыми слабенькими детскими ручками. Мы знаем, что будущий музыкант Ольга Спирова (класс преподавателя Т.М. Скобловой) 5 мая 1944 года получила четверку на переводном экзамене, исполнив двухголосную фугу Баха c-moll, этюд Черни-Гермера и сонатину Бетховена, что никто в школе не преследовал в годы войны с фашизмом немецкую культуру и не исключал из программы произведения великих немецких композиторов, а даже несколько лет подряд были специальные академические вечера, где исполнялась только музыка И. С. Баха. Билет № 3 на зачете по музыкальной литературе для VI класса состоял из пяти вопросов, среди которых биография Шумана, творческий облик Шопена, фортепианные произведения Шуберта, песни без слов Мендельсона и прелюдии Шопена. Эти вопросы достались Ангелине Ражевой, и она блестяще на них ответила. Мы знаем, что сестра педагога-теоретика, легенды Первой школы Леонтины Шахматовой, Лола Брицкая, видимо, расхотела заниматься и была рекомендована к исключению из школы, ухитрившись получить двойки и по фортепиано, и по теоретическим дисциплинам. Исключить не успели — отца переводят на Западную Украину, а в биографии девочки позже будут и пятерки на вступительных экзаменах в музыкальное училище.
Еще об одной теме не могу не рассказать. 6 ноября 43-го исполнялось 50 лет со дня смерти Петра Ильича Чайковского, и вопрос подготовки к юбилею вынесли на общее собрание коллектива 22 октября. Директор школы предложила «развернуть работу в стенах школы» – в планах были организация концерта, выпуск стенгазеты и выбор одной пьесы П.И. Чайковского на «соревнование». Конкурс исполнения одного произведения провести на одном курсе. Внимательно изучая программы закрытых концертов фортепианного отделения в декабре, можно сделать вывод, что идея прижилась, только слегка трансформировалась. Творчеству гениального русского композитора школа посвятила три концерта 19, 20 и 21 декабря, проведя своего рода марафон. Выступали учащиеся третьих, четвертых, пятых, шестых и седьмых классов. В общем, это не было «соревнованием одной пьесы». За исключением «Песни без слов», исполненной семиклассницей Фридой Видеровой, остальные учащиеся исполняли произведения из цикла «Детский альбом», третий класс представлял трилогию куклы (любая пьеса из трех), четвертый класс играл на выбор «Польку» или «Песню жаворонка», пятый – пьесы «Баба-яга» и «Сладкая греза», шестой – «Жаворонок» или «Зимнее утро», седьмой класс – «Подснежник» или «Вальс». А в феврале 1944-го в училище прошел большой концерт, посвященный творчеству Чайковского, и лучшие учащиеся Оммузшколы приняли в нем участие наравне со студентами. В ведомости выдачи свидетельств об окончании школы в списке выпускников в этом году значатся 9 ребят, но не все из них расписались в получении или даже забрали документы.
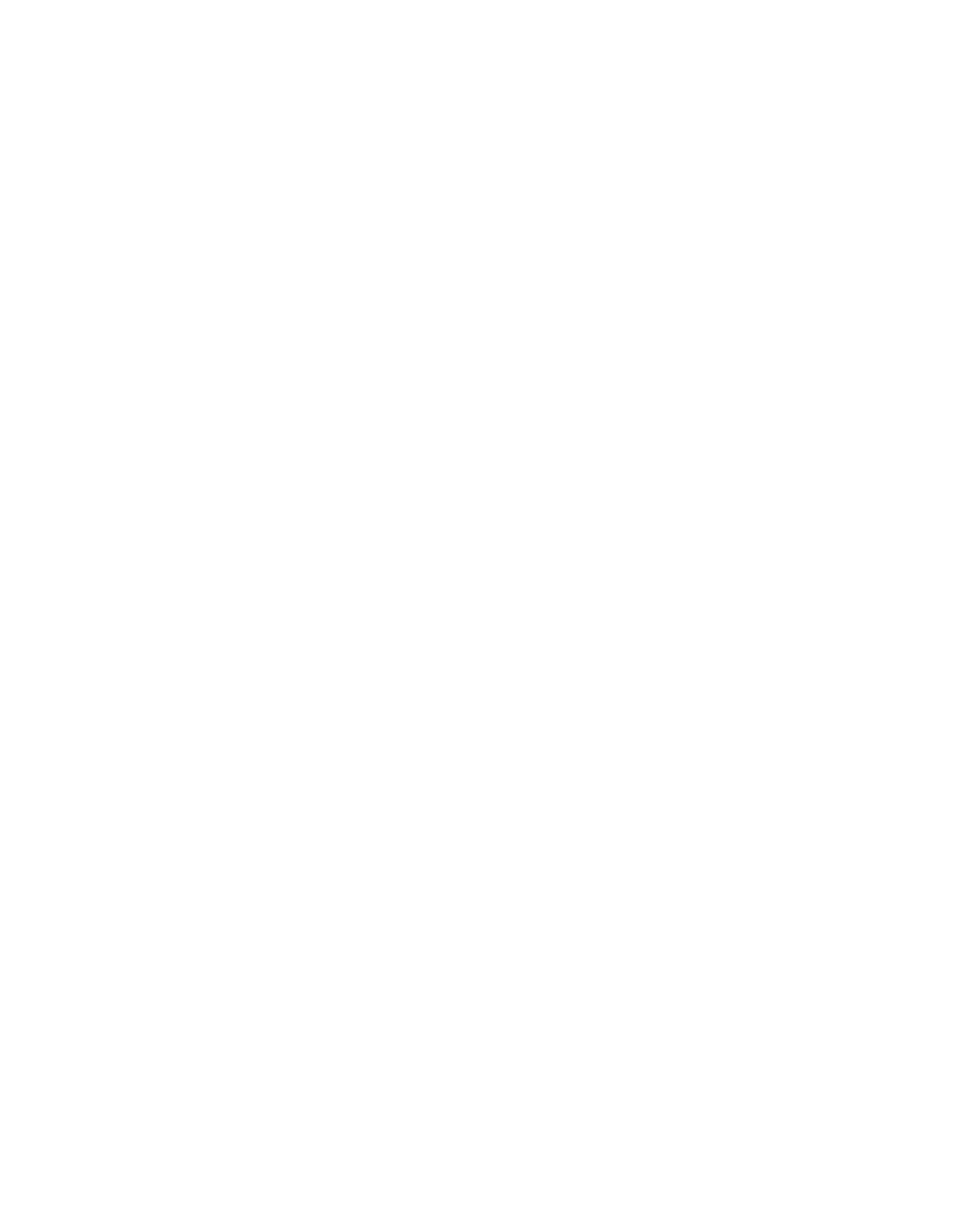
Протокол общего собрания от 22 октября 1943 года
Документы за 1944/45, последний военный учебный год, мне найти не удалось, кроме приказов по школе и пары газетных вырезок, ничего существенного. Снова с началом года началось движение педагогов: кого-то призывают в ряды РККА, кого-то переводят в другие города. С отъездом Ефима Лисянского в освобожденную Одессу завершилась история эвакуированных педагогов. Снова остались только те педагоги, кто работал в школе до войны. И снова поиск совместителей, и снова принимают студентов, хотя есть и педагоги с дипломами «из своих»: Р. Надель, выпускница дирижерско-хорового отделения Омского музыкального училища, или И. Лехем, до войны учившаяся в школе и поступившая в музыкальное училище, выпускница Свердловской государственной консерватории имени Мусоргского. Директору училища и директору школы перед началом учебного года обещают вернуть все здание целиком, необходимости размещения в нем прокуратуры больше нет, число военных и приравненных к ним лиц в Омске ежедневно сокращается, передислоцируются госпиталя, планируется вывод военных училищ, но по-прежнему училище, Оммузшкола и КОМО ютятся в цоколе собственного родного дома. Правда, один из классов передали училищу и школе еще в прошлом году, но ситуацию это не исправило.
В марте 1945 года корреспондент газеты «Омская правда» Н. Петунина задается справедливым вопросом: «До каких же пор будет продолжаться бездушно-бюрократическое отношение к судьбе музыкального училища, одного из старейших художественных заведений Сибири?». Из-за сырости и холода многие ценные музыкальные инструменты пришли в негодность. Далее по тексту статьи: «Вместо того чтобы вернуть училищу его помещение, специально приспособленное для обучения музыке, Горсовет ограничивается только сочувственными решениями. Проверкой выполнения этих решений никто не занимается».
Свидетельство об окончании школы в тот год получили четверо выпускников. Учебный год задержали, было очень много выступлений и митингов, на которые приглашали школьников-музыкантов. Приказ № 27 от 1 июля 1945 года выбивается из общей стилистики делопроизводства: «Ввиду окончания 1944/45 уч. года объявляю благодарность всем педагогам и служащим Ом. дет. муз. школы за хорошую, добросовестную работу и согласно постановлению СНК РСФСР считаю в очередном отпуску. Директор ДМШ Ядвига Щепановская».
Война Первой музыкальной завершилась победой – победой над обстоятельствами и, главное, над собой. Школа сражалась, просто продолжая жить.
В марте 1945 года корреспондент газеты «Омская правда» Н. Петунина задается справедливым вопросом: «До каких же пор будет продолжаться бездушно-бюрократическое отношение к судьбе музыкального училища, одного из старейших художественных заведений Сибири?». Из-за сырости и холода многие ценные музыкальные инструменты пришли в негодность. Далее по тексту статьи: «Вместо того чтобы вернуть училищу его помещение, специально приспособленное для обучения музыке, Горсовет ограничивается только сочувственными решениями. Проверкой выполнения этих решений никто не занимается».
Свидетельство об окончании школы в тот год получили четверо выпускников. Учебный год задержали, было очень много выступлений и митингов, на которые приглашали школьников-музыкантов. Приказ № 27 от 1 июля 1945 года выбивается из общей стилистики делопроизводства: «Ввиду окончания 1944/45 уч. года объявляю благодарность всем педагогам и служащим Ом. дет. муз. школы за хорошую, добросовестную работу и согласно постановлению СНК РСФСР считаю в очередном отпуску. Директор ДМШ Ядвига Щепановская».
Война Первой музыкальной завершилась победой – победой над обстоятельствами и, главное, над собой. Школа сражалась, просто продолжая жить.
От Редакции журнала Терто:
С материалами Детской школы искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича города Омска, в том числе архивными об истории школы можно познакомиться на сайте школы